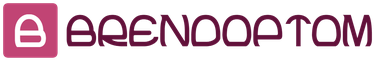Фантастика, гротеск и абсурд в художественном мире гоголя. Фантастика и гротеск как художественный прием в произведениях М
Фантастика и реальность в творчестве М. Булгакова. (По повести "Собачье сердце".)
Сатира создаётся тогда, когда появится писатель,
который сочтёт несовершенной текущую жизнь, и,
негодуя, приступит к художественному обличению её.
Содержание произведения представляет остроумную и злую сатиру на социальную действительность двадцатых годов двадцатого столетия, "гротескный образ современности".
В настоящее время нас поражает удивительная прозорливость М. Булгакова, который сумел увидеть опасность научных открытий, вырвавшихся из-под контроля учёных и приносящих огромный вред людям. Своей повестью "Собачье сердце" он как бы призывает интеллигенцию, весь учёный мир к максимальной осторожности в обращении с неизведанными силами природы.
Повесть "Собачье сердце" (1925) основана на типичном для гротеска мотиве превращения: в основе её сюжета - история о том, как пёс Шарик стал Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, как появилось на свет существо, соединившее в себе дворнягу и люмпена, алкоголика и хулигана Клима Чугункина.
Действие повести начинается с того, что профессор Преображенский, который омолаживает нэпманов и советских чиновников, заманивает с помощью колбасы к себе домой собаку, чтобы потренироваться в проведении пересадок гипофиза. Обыденное поначалу происшествие (приманка бродячей собаки) благодаря реминисценциям из поэмы А. Блока ("ветер, ветер на всём божьём свете", буржуй, безродный пёс, плакат, которым играет ветер) сразу же приобретает несвойственный ему масштаб, а дальнейшее развитие событий и их фантастический поворот усиливают это впечатление, создавая гротескную ситуацию, основанную на совмещении бытового и глобального, реального и фантастического.
Превращение Шарика в Шарикова и всё, что за этим последовало, предстаёт у М. Булгакова как буквальная реализация популярной в послереволюционные годы идеи, суть которой метафорически выражена в словах известного большевистского гимна: "Кто был ничем, тот станет всем". Фантастическая ситуация помогает обнажить абсурдность этой идеи. Та же ситуация обнаруживает абсурдность другой, не менее популярной, хотя, казалось бы, мало совместимой с первой, мысли о необходимости и возможности создания нового человека.
В художественном пространстве повести акт Преображения подменяется механистичным вторжением в святая святых самого мироздания. Экспрессивные детали, использованные при описании операции, которая должна служить созданию новой "породы" людей, подчёркивает абсурдный, античеловеческий, сатанинский смысл насилия над природой. В момент операции у Преображенского "зубы... сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск...".
В результате фантастической операции, наделяющей Шарика "всем", происходит вытеснение благодарного, привязчивого, верного, смышлёного пса, каким он является в первых трёх главах повести, тупым, способным на предательство, неблагодарным и агрессивным люмпеном, вожделеющим занять место, ему не принадлежащее. Правдоподобные детали, соединяясь, создают фантастическую гремучую смесь под названием "Шариков", которая приобрела сегодня нарицательное значение, стала символом агрессивности люмпена.
Композиционное соотнесение парадоксально несхожих ситуаций (Преображение Господне - и операция по пересадке половых желез) и их последствий (просветление - усиление тёмного, агрессивного начала) усиливает характерное для гротеска впечатление абсурдности мира, создающего условия для совмещения несовместимого. Двойной композиционный гротеск (Преображение - хирургическая операция с её сомнительным результатом; очеловеченная собака - озверевший люмпен), подкрепляясь игрой на контрастных деталях (лампа под зелёным абажуром, чучело совы - символа мудрости, книги в застеклённых шкафах и ловля блох, запах кошек, пьянство), получает сюжетное развитие, основанное на совмещении реального и фантастического.
Вчерашний Шарик обретает "бумаги" и право на прописку, устраивается на работу "в очистку" в качестве заведующего подотделом очистки города от бродячих котов, пёс пытается "зарегистрироваться" с барышней, дворняга претендует на жилплощадь профессора и пишет на него донос. Профессор Преображенский оказывается в трагикомическом положении: порождение его ума и рук грозит самому факту его существования, покушается на основы его мироустройства, чуть не губит его "вселенную"(многозначителен комически переиначенный мотив "потопа", вызванного неумением Шарикова обращаться с водопроводными кранами).
Взаимоотношения Шарикова и Преображенского обостряются ввиду существования провокатора - представителя власти Швондера, стремящегося "уплотнить" профессора, отвоевать у него часть комнат. Соединяя линии Швондера и Шарикова, Булгаков использует характерный для гротеска приём реализации метафоры, когда метафора приобретает из переносного буквальное значение: Швондер "спускает собаку" - для наступления на профессора использует Шарикова. Писатель вводит реализацию метафоры "спустить собаку, натравить собаку". Швондер производит Шарикова в "товарищи", внушает ему мысль о его пролетарском происхождении и о преимуществах последнего. Далее находит ему службу в соответствии с влечением сердца, "выправляет" ему "бумаги" и внушает мысль о праве на жилплощадь профессора, вдохновляя Шарикова написать на него донос. Гротескный образ Шарикова заставил исследователей поставить вопрос об отношении М. Булгакова к некоторым нравственным традициям русской литературы, в частности, к характерному для интеллигенции комплексу вины и преклонения перед народом. Как свидетельствует повесть, писатель отвергал обожествление народа, но при этом не снимал вины ни с Преображенского, ни со Швондера. Он смело показал своего рода невменяемость народа, ничем не защищённого ни от экспериментов Преображенского (символична готовность Шарика обменять свою свободу на кусок колбасы), ни от "идейной" обработки Швондера. С этой точки зрения конец повести также пессимистичен - Шарик не помнит, что с ним произошло, ему отказано в прозрении, он не приобрёл какого-либо иммунитета.
В ситуации, когда "швондеры" использовали в своих целях унаследованное от прошлого недоверие народа к интеллигенции, когда люмпенизация народа приобретала угрожающий характер, пересмотру подлежало и традиционное представление о праве интеллигенции на самозащиту, которое противоречило представлению о "неотразимости безоружной истины".
" Подобная идеальная модель поведения интеллигента в "Собачьем сердце" возникает в высказываниях Преображенского, который опровергает право на насилие по отношению к другому человеку и призывает Борменталя во что бы то ни стало сохранять "чистые руки". Но эта модель, как мы видим, опровергается самим развитием сюжета повести.
Иван Арнольдович Борменталь выступает как представитель нового поколения интеллигенции. Он первым решается на "преступление" - возвращает Шарику его первоначальный облик. Тем самым утверждается право человека культуры на борьбу за своё право быть, сосуществование.
Таким образом, фантастический сюжет повести позволил М. Булгакову ещё раз продемонстрировать справедливость своего главного тезиса - о Великой Эволюции, являющейся законом нормальной человеческой жизни. Фантастическое в повести не имеет определяющего значения, а становится лишь средством анализа социальных явлений. Не имея возможности прямо высказать свою точку зрения, писатель прибегает к помощи иносказания для того, чтобы показать, что дьявольские дела на земле творят сами люди, не отдающие отчёта в результатах своей деятельности.
При всей невероятности, фантастичности повести, она отличается удивительным правдоподобием. Это не только узнаваемые конкретные приметы времени. Это - сам городской пейзаж, место действия: Обуховский переулок, дом, квартира, ее быт, облик и поведение персонажей и т. п. В результате нереальная история с Шариковым воспринимается читателем вполне реально.
Реальность повседневной жизни России 20-х годов, сатирически отображённая, мастерское использование фантастики, обнаруживающей абсурдность современности, сделали «Собачье сердце
Сочинение
В романе "Мы" Е.Замятина в фантастическом и гротесковом облике перед нами предстает возможный вариант общества будущего. В геометрическом обществе запрещается иметь незапланированные желания, все строго регламентировано и рассчитано, чувства ликвидированы, в том числе и самое ценное, движущее жизнь, чувство любви: каждому жителю государства выдается талон на "любовь" в определенные дни недели. Любое отклонение от нормы в Едином Государстве фиксируется с помощью четко налаженной системы доносов. Незаурядность, талант, творчество - враги порядка - подвергаются уничтожению. Бунтари излечиваются путем хирургического вмешательства. Всеобщее регламентированное счастье достигается всеобщим равенством.
Проблема счастья человечества тесно связана в романе с вопросом о свободе личности, вопросом, имеющим давнюю и непреходящую традицию в русской литературе. Современная критика сразу увидела в романе традицию Достоевского, проведя параллель с его темой Великого инквизитора. "Этот средневековый епископ, - пишет один из первых исследователей творчества Замятина, О.Михайлов, - этот католический пастырь, рожденный фантазией Ивана Карамазова, железной рукой ведет человеческое стадо к принудительному счастью... Он готов распять явившегося вторично Христа, дабы Христос не мешал людям своими евангельскими истинами "соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник". В романе "Мы" Великий инквизитор появляется вновь - уже в образе Благодетеля".
Созвучие проблематики романа "Мы" с традициями Достоевского особо наглядно подчеркивает национальный контекст замятинской антиутопии. Вопрос о свободе и счастье человека приобретает особую актуальность на русской почве, в стране, народ которой склонен к вере, к обожествлению не только идеи, но и ее носителя, не знающий "золотой середины" и вечно жаждущий свободы. Эти два полюса русского национального сознания нашли отражение в изображении двух полярных миров - механического и природно-первобытного. Эти миры одинаково далеки от идеального мироустройства. Вопрос о нем Замятин оставляет открытым, иллюстрируя романом свой теоретический принцип исторического развития общественной структуры, основанный на представлении писателя о бесконечном чередовании революционного и энтропийного периодов в движении любого организма, будь то молекула, человек, государство или планета. Любая кажущаяся прочной система, такая, к примеру, как Единое Государство, неизбежно погибнет, подчиняясь закону революции.
Одна из главных се движущих сил заложена, по мысли писателя, в самой структуре человеческого организма.
Замятин побуждает нас к мысли о непреходящей вечности биологических инстинктов, являющихся прочной гарантией сохранения жизни независимо от социальных катаклизмов. Эта тема найдет свое продолжение в последующем творчестве художника и завершится в его последнем российском рассказе "Наводнение", сюжет которого отражает замятинский закон, работающий в романе "Мы", но только переведенный из социально-философской сферы в биологическую. Рассказ строится согласно постоянной авторской антитезе "живое" - "мертвое", которая составляет тему замятинского творчества и влияет на формирование его стиля, соединившего в себе рациональное и лирическое начала. Лиризм в художественных произведениях Замятина объясняется его вниманием к России, интересом к национальной специфике народной жизни. Не случайно критики отмечали "русскость" западника Замятина. Именно любовью к родине, а не враждой к ней, как утверждали современники Замятина, рождено бунтарство художника, сознательно избравшего трагический путь еретика, осужденного на долгое непонимание соотечественников.
Возвращение Замятина - реальное свидетельство начавшегося пробуждения в народе личностного сознания, борьбе за которое писатель отдал свой труд и талант.
Настоящая литература может быть
только там, где ее делают не
исполнительные и благонадежные.
а безумные еретики.
Е. Замятин
В антиутопии «Мы» Замятин показал, как можно заорганизовать жизнь человека, превратить его в послушную машину, которая будет выполнять любую работу, соглашаться на разные нелепости. Причем такая жизнь вполне устраивает жителей этой страны. Они счастливы, что живут в неком «идеальном» сообществе, где нет необходимости мыслить, что-то решать. Даже выборы главы государства доведены до абсурда. Уже несколько лет выбирают одного из одного, подтверждая полномочия «Благодетеля».
Государство смогло сделать самое страшное - убить в людях душу. Они потеряли ее вместе со своими именами. Теперь лишь номера отличают одного индивидуума от другого.
Свое возрождение Д-503 воспринимает как катастрофу и болезнь, когда врач говорит ему: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа».
На время Д-503 пытается вырваться из обыденного круга, оказывается среди бунтарей. Но привычка жить по давно заведенному порядку оказывается сильнее любви, привязанностей, любопытства. В конце концов страх перемен и привычка к послушанию побеждают было возродившуюся, но еще не окрепшую душу. Спокойнее жить по-прежнему, без потрясений, без мыслей о завтрашнем дне, вообще ни о чем не заботясь. Опять все хорошо: «Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров... из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто...»
Ярко и убедительно Замятин показал, как возникает конфликт между человеческой личностью и бесчеловечным общественным укладом, конфликт, резко противопоставляющий антиутопию идиллической, описательной утопии.
Произведение талантливо и образно показало путь человечества к полицейскому государству, существующему не для человека, а для себя. Не так ли и в СССР шло строительство «монстра» для себя, а не для людей? Именно поэтому роман Замятина «Мы» не печатался на родине писателя долгие годы. В своем произведении автор очень убедительно показал, к чему можно прийти в результате строительства «счастливого будущего».
Другие сочинения по этому произведению
"без действия нет жизни..." В.Г.Белинский. (По одному из произведений русской литературы. - Е.И.Замятин. "Мы".) «Великое счастье свободы не должно быть омрачено преступлениями против личности, иначе-мы убьем свободу своими же руками…» (М. Горький). (По одному или нескольким произведениям русской литературы XX века.) "Мы" и они (Е.Замятин) «Возможно ли счастье без свободы?» (по роману Е. И. Замятина «Мы») «Мы» — роман-антиутопия Е. И. Замятина. «Общество будущего» и настоящее в романе Е. Замятина «Мы» Антиутопия для античеловечества (По роману Е. И. Замятина «Мы») Будущее человечества Главный герой романа-антиутопии Е. Замятина «Мы». Драматическая судьба личности в условиях тоталитарного общественного устройства (по роману Е. Замятина «Мы») Е.И.Замятин. "Мы". Идейный смысл романа Е. Замятина «Мы» Идейный смысл романа Замятина «Мы» Личность и тоталитаризм (по роману Е. Замятина «Мы») Нравственная проблематика современной прозы. По одному из произведений по выбору (Е.И.Замятин «Мы»). Общество будущего в романе Е. И. Замятина «Мы» Почему роман Е. Замятина называется «Мы»? Предсказания в произведениях «Котлован» Платонова и «Мы» Замятина Предсказания и предостережения произведений Замятина и Платонова («Мы» и «Котлован»). Проблематика романа Е. Замятина «Мы» Проблематика романа Е. И. Замятина «Мы» Роман «Мы» Роман Е. Замятина «Мы» как роман-антиутопия Роман Е. И. Замятина «Мы» — роман-антиутопия, роман — предупреждение Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы» Смысл названия романа Е. И. Замятина «Мы» Социальный прогноз в романе Е. Замятина «Мы» Социальный прогноз Е. Замятина и реальность xx века (по роману «Мы») Сочинение по роману Е. Замятина «Мы» Счастье «нумера» и счастье человека (по роману Е. Замятина «Мы») Тема сталинизма в литературе (по романам Рыбакова «Дети Арбата» и Замятина «Мы») Что сближает роман Замятина «Мы» и роман Салтыкова-Щедрина «История одного города»? И-330 - характеристика литературного героя Д-503 (Второй Вариант) - характеристика литературного героя О-90 - характеристика литературного героя Главный мотив романа Замятина «Мы» Центральный конфликт, проблематика и система образов в романе Е. И. Замятина «Мы» «Личность и государство» в произведении Замятина «Мы». Роман-антиутопия в русской литературе (по произведениям Е. Замятина и А. Платонова) Унификация, уравниловка, регламентация в романе «Мы» Счастье «нумера» и счастье человека (сочинение-миниатюра по роману Е. Замятина «Мы») . Петербургские повести издавались в период с 1835 по 1842 год и не выделялись Гоголем в единый цикл. Они -попытка писателя раскрыть дух города. Он создал яркий образ-символ города, одновременно реального и призрачного, фантастического.Писатель описывает жизнь обычных «маленьких людей». Общие черты повестей:- Место действия
- Эпоха
-Единый принцип повествования на основе фантастики и гротеска, которые определяют структуру образов и дают ключ к пониманию замысла произведений
-Образ города, созданный писателем
Все повести связаны общностью проблематики (власть чинов и денег), единством основного героя (разночинца, «маленького» человека), целостностью ведущего пафоса (развращающая сила денег, разоблачение вопиющей несправедливости общественной системы). Они воссоздают обобщенную картину Петербурга 30-х годов XX века, отражавшую концентрированно социальные противоречия.
гротеск - образный стержень петербургских повестей. Это способ выражения искажённого, бездуховного существования Петербурга и его обывателей, которое провоцирует возмездие, равное по абсурдности и фантастичности самому бытию.. Движение сюжета у Гоголя служит раскрытию «обмана», дискредитации внешних форм в целях поиска внутреннего содержания («Невского проспекта»). в петербургских повестях фантастический элемент отодвигается на второй план сюжета. Сверхъестественное присутствует косвенно, как сон («Нос»), бред («Записки сумасшедшего»), неправдоподобные слухи («Шинель»). распространенный прием у Г. - опредмечивание, овеществление одушевленного. Сюда относится редукция персонажа до одного внешнего признака (все эти талии, усы, бакенбарды и т. д., гуляющие по Невскому проспекту) и гротескная экспансия (распадение тела на отдельные части - повесть «Нос»).
Гротескные коллективные образы: Невский проспект, канцелярии, департамент (начало «Шинели», ругательство - «департамент подлостей и вздоров» и т.п.). Гротескная смерть: веселая смерть у Гоголя - преображение умирающего Акакия Акакиевича (предсмертный бред с ругательствами и бунтом), его загробные похождения за шинелью. Гротескны переписывающиеся собаки в бреде Поприщина в «Записках сумасшедшего». Гротескные образы отличаются карикатурностью, преувеличением, контрастностью, они разрушают гармоническое восприятие жизни, вносят тревогу, ожидание нового.
В повестях «Нос» и «Шинель» изображены два полюса петербургской жизни: абсурдная фантасмагория и будничная реальность.
В «Невском проспекте» роль гротеска - описательно-выявительная: появляютья бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, чёрные. Главными чертами становятся изображения отдельных деталей одежды людей, проходящих по «улице-красавице». Гоголь использует приём метонимии, нагнетая атмосферу и превращая описание Невского в собирательный гротескный образ..
В повести «Нос» фантастическая составляющая гротеска выводит в пространство абсурда: у главного героя уходит нос, превратившись в высокопоставленного чиновника. Пропажа носа - возмездие, майору Ковалёву, заменившему в себе человека чином. В повести рисуется чудовищная власть чмномании и чинопочитания. нос - часть петербургской мифологии. Это мифология- бюрократическая. Нос ведёт себя так, как подобает «значительному лицу»: молится в Казанском соборе, прогуливается по Невскому проспекту, заезжает в департамент, делает визиты, собирается по чужому паспорту ехать в Ригу. Фантастика в «Носе» - тайна, которой нет нигде и которая везде..
«Шинель» - история мелкого чиновника из Петербурга, который в переписывании бумаг видел смысл жизни. С наступлением необычно продолжительных морозов единственной мечтой Акакия Акакиевича стала новая шинель..
В повести «Шинель» запуганный, забитый Башмачкин проявляет своё недовольство значительными лицами, грубо его принижавшими и оскорблявшими, в состоянии беспамятства, в бреду. Но автор защищая его, осуществляет протест. Пройдя испытания (пусть не имеющие героического масштаба!), Акакий Акакиевич исполнил свою мечту. Но… был ограблен(!) петербургскими разбойниками. Гротеск в этой повести - тоже возмездие. Фантастическое становится реальным. Этот «маленький человек», вечный титулярный советник» Акакий Акакиевич Башмачкин становится частью петербургской мифологии, приведением, фантастическим мстителем, который наводит ужас на «значительных лиц».
Значительное лицо, смертельно напугавшее Акакия Акакиевича, ехало по неосвещенной улице после вылитого у приятеля на вечере шампанского, и ему, в страхе, вор мог показаться кем угодно, даже мертвецом.
|
|
|
|
Сложность решения «загадок» фантастики заключается в том, что при попытках разобраться в сущности этого явления зачастую совмещают гносеологический и эстетический аспекты проблемы. Кстати, в различных толковых словарях наблюдается как раз гносеологический подход к явлению. Во всех словарных определениях фантастики обязательны два момента: а) фантастика - это продукт работы воображения и б) фантастика - нечто не соответствующее действительности, невозможное, несуществующее, противоестественное.
Для оценки того или иного создания человеческой мысли как фантастического необходимо учитывать два момента: а) соответствие, вернее несоответствие, того или иного образа объективной реальности и б) восприятие его человеческим сознанием в ту или иную эпоху. Поэтому самый безудержный вымысел в мифах мы можем назвать фантастикой с непременной оговоркой, что все мифологические события фантастичны только для нас, ибо мы иначе видим окружающий нас мир и нашим представлениям о нем эти образы и понятия уже не соответствуют. Для самих же создателей мифов многочисленные боги и духи, населяющие окрестные леса, горы и водоемы, вовсе не были фантастикой, они были не менее реальны, чем все материальные предметы, окружавшие их. А ведь само понятие фантастики непременно включает момент осознания того, что тот или иной образ является всего лишь продуктом воображения и не имеет аналога или своего прообраза в действительности. Пока существует только вера и рядом с ней не поселяется сомнение и неверие, очевидно, нельзя говорить о возникновении фантастики.
И в литературоведении, хотя значение этого термина, как правило, не уточняется, с понятием фантастики связано обычно представление о явлениях, в достоверность которых не верят или перестали верить. Так, в работе о творчестве Ф. Рабле М. Бахтин, как явствует из его анализа французской комической драмы трувера Адама де ля Аль «Игра в беседке» (XIII в.), воспринимает фантастическое начало в пьесе как явное неверие в реальность того или иного персонажа. Карнавально-фантастическую часть пьесы он связывает с появлением трех фей - персонажей сказочно-фольклорных. Фантастика здесь - «развенчанные языческие боги», в которых христианин не верил или не должен был верить.
Все это, разумеется, верно: в плане гносеологическом фантастика всегда за пределами веры, в противном случае это уже не совсем фантастика. Самые же фантастические образы тесно связаны с процессом познания, поскольку представления, не соответствующие действительности, неизбежно рождаются в нем. Ведь, как писал В. И. Ленин, «подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка=понятия) с нее не есть простой непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни…»
Все это приводит к тому, что основной арсенал фантастических образов рождается на мировоззренческой основе, на основе образов познавательных. Особенно наглядно это проявляется в народной волшебной сказке.
Независимо от того, считают ли фольклористы «установку на вымысел» определяющим признаком сказки или нет, все они связывают рождение фантастических образов сказки с древнейшими представлениями о мире, и, возможно, «было время, когда в истину сказочных повествований верили так же непоколебимо, как мы верим сегодня историко-документальному рассказу и очерку». В. Пропп тоже писал о том, что «сказка строится не на вольной игре фантазии, а отражает действительно имеющиеся представления и обычаи».
Во всяком случае современный исследователь отмечает, что в фольклоре народов, находящихся на стадии первобытно-общинного строя, зачастую трудно отделить миф от «немифа» - от сказки, легенды и пр. Постепенно древняя вера, конечно, слабела, но не была совсем утрачена даже к тому времени, когда образованные круги общества стали проявлять интерес к народному творчеству и началось активное собирание сказочных текстов. Еще в конце XIX - начале XX вв. собиратели фольклорных текстов отмечали, что рассказчики и слушатели, если и не верят вполне сказочным чудесам, то хотя бы «полуверят», а порой «народ смотрит на сказочные эпизоды как на действительно бывшие события».
Осознание прежнего заблуждения превращает познавательный образ в фантастический. При этом фактура его может практически не подвергаться изменениям, меняется отношение к нему. Так вот первое и очень важное направление классификации в фантастике и связано с классификацией самих фантастических образов и распределением их по определенным группам.
В современном искусстве да и в бытовом обиходе явно выделяются три основные группы фантастических образов, идей и ситуаций, порожденных разными эпохами и различными системами представлений о мире.
Одни из них рождены глубокой древностью, связаны со сказкой и языческими верованиями. Их мы и называем обычно сказочной фантастикой. Особую подгруппу в европейской культуре составляют образы античной языческой мифологии, окончательно эстетизированные и ставшие условностью. Правда, в наши дни можно наблюдать их второе рождение уже в одежде «пришельцев».
Образы второй группы возникают в более поздние времена - в эпоху средневековья - в основном в недрах народных суеверий, разумеется, не без опоры на прежний опыт языческих представлений о мире. И в первом, и во втором случае не искусство и не художественное творчество порождает их, они рождаются в процессе познания и являются частью жизни человека тех далеких эпох, достоянием искусства они оказываются позднее. Еще А. И. Веселовский отмечал эти две эпохи «великого мифического творчества».
И наконец, третья группа образов, новая образная система возникла в искусстве в XIX–XX вв. опять-таки не без оглядки на прошлый фантастический опыт. С ней и связано представление о научной фантастике.
Образы каждой из этих трех групп возникают в определенную эпоху и несут на себе отпечаток того мировосприятия, которое их породило, потому что рождаются они не как фантастика, а как образы познавательные и воспринимаются в момент их рождения как верное и единственно возможное знание о действительности… Но наступает другое время, меняется отношение к миру, видение его, и эти образы, уже не соответствующие новому знанию и видению, воспринимаются как искажение его, т. е. как фантастика. Несколько сложнее обстоит дело с образами третьей группы, но об условиях их формулирования разговор еще предстоит.
Итак, в гносеологическом плане фантастика непременно оказывается некой деформацией действительности и обязательно находится за пределами веры. И здесь все довольно однозначно. С фантастикой, являющейся не бытовым или познавательным понятием, а принадлежностью искусства, дело обстоит куда сложнее, и там предложенная выше классификация по системам фантастической образности, фактически по мировоззренческим эпохам, породившим эти разные системы, оказывается недостаточной, хотя, как мы постараемся показать в последующих главах, без такой классификации и систематизации фантастических образов многое остается неясным в истории фантастики. Но в целом, повторяем, классификация по системам фантастических образов вытекает из гносеологического аспекта изучения фантастики.
Чисто гносеологический подход к проблеме, хотя он чрезвычайно важен сам по себе, мало приближает нас к ответу на вопрос, что же такое фантастика в искусстве, какие она занимает там «экологические ниши» и каково ее происхождение. В искусстве фантастика многолика.
Ощущение неоднозначности понятия фантастики и породило стремление провести классификацию фантастических произведений, не образов, заметим, а именно произведений как целостных художественных структур. О различных попытках решения этого вопроса подробно шла речь во введении. Как мы видели, подавляющее большинство авторов старается отделить «просто» фантастику от научной фантастики, т. е. начинает классификацию как бы «внутри» фантастики. При этом оказывается, что очень трудно, едва ли вообще возможно выйти из противоречия между пониманием фантастики как литературной стратегии, как некоего иносказания и восприятием ее как особого предмета изображения.
Несколько более перспективный принцип намечается, на наш взгляд, в работах С. Лема и В. Чумакова. В. Чумаков берет за основу не тематический принцип, а ту роль, которую выполняют фантастический образ, идея или гипотеза в системе произведения, вопрос о том, в каком отношении фантастический образ находится к форме и содержанию произведений. Исходя из этого, В. Чумаков выделяет 1) «формальную, стилевую фантастику», или «формальную фантастику искусства» и 2) «содержательную фантастику». -Правда, этот принцип он избирает только для первого этапа классификации. Последующую классификацию «содержательной» фантастики он ведет по тому же тематическому принципу: а) «содержательная утопическая фантастика», б) «научно-социальная фантастика», а где-то в стороне от столбовой дороги бредет еще иллюстративная или популяризаторская фантастика, в которой автор выделяет «научно-техническую фантастику» и «научную биологическую фантастику». Но основа для первого этапа классификации - место и роль фантастического образа в произведении - найдена верно. Правда, некоторое сомнение рождает терминология, таящая в себе опасность отрыва формы от содержания, правильнее было бы говорить о самоценной, а не о содержательной фантастике. Но в целом классификация фантастики по ее роли в системе изобразительных средств произведения открывает, безусловно, куда более далекие перспективы, нежели довольно поверхностный тематический принцип или отношения веры - неверия, возможного - невозможного.
Дело в том, что, основываясь на этом принципе, можно наметить более ранний этап классификации, нежели то отличие «просто» фантастики от научной фантастики, fantasy от science fiction, которое, как правило, оказывается в центре внимания зарубежных авторов, пишущих о современной фантастике. Этот первый этап предполагает разграничение фантастики как вторичной художественной условности и собственно фантастики. Такой этап классификации совершенно необходим, без него каждая новая попытка отделить fantasy от научной фантастики будет только множить определения.
По сути дела на этом этапе классификации настаивает С. Лем, когда пишет о «двух видах литературной фантастики: о фантастике, являющейся конечной целью (final fantasy), как в сказке и научной фантастике, и о фантастике, только несущей сигнал (passing fantasy), как у Кафки.» В научно-фантастическом рассказе присутствие разумных динозавров обычно не является сигналом скрытого смысла. Подразумевается, что динозаврами мы должны восхищаться, как мы восхищались бы жирафом в зоологическом саду; они воспринимаются не как части семантической системы, а только как составляющая эмпирического мира. С другой стороны, «в „Превращении“ (имеется в виду рассказ Кафки. - Т. Ч.) подразумевается не то, что мы должны воспринимать превращение человека в насекомое как фантастическое чудо, но скорее понимание того, что Кафка путем такой деформации изображает социально-психологическую ситуацию. Странный феномен образует только как бы внешнюю оболочку художественного мира; ядро же его составляет вовсе не фантастическое содержание».
В самом деле, при всем многообразии фантастических произведений в современном искусстве явно выделяются, условно говоря, две группы их. В одних фантастические образы выполняют роль специального художественного приема, и тогда действительно оказываются одной из составляющих вторичной художественной условности. Когда речь идет о фантастике, являющейся частью вторичной художественной условности, основными признаками ее оказываются: а) смещение реальных жизненных пропорций, некая художественная деформация, поскольку фантастика всегда изображает нечто невозможное в действительности, это ее родовой признак, и б) иносказательность, отсутствие самоценности образов. Прибегая к фантастической вторичной условности, автор непременно предполагает некий «перевод» образа, расшифровку его, небуквальное его прочтение. С. Лем сравнивает фантастический образ в таком произведении с телеграфным аппаратом, который только несет сигнал, передает его, но не воплощает его содержание.
Конечно, диалектика реальных отношений между механизмом, несущим сигнал, и смыслом этого сигнала в иносказательных структурах искусства сложнее, чем в телеграфной технике, но, учитывая неизбежное в таких случаях огрубление явления, в первом приближении можно принять и это сравнение. Порой литературоведы и даже писатели-фантасты (последние не столько на практике, сколько в своих теоретических высказываниях) стараются вообще ограничить этим сферу действия фантастики. А. и Б. Стругацкие, например, в одной из своих статей дают следующее определение фантастики: «Фантастика есть отрасль литературы, подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, рассматривающая общие литературные проблемы (типа: человек и мир, человек и общество и т. д.), но характеризующаяся специфическим литературным приемом - введением элемента необычайного» (выделено нами. - Т. Ч.).
Однако существуют произведения, в которых фантастический образ или гипотеза оказываются основным содержанием, главной заботой автора, конечной целью его; они значимы или, во всяком случае, самоценны. Этот тип фантастических произведений В. М. Чумаков и называет «содержательной фантастикой», С. Лем «конечной» фантастикой, а мы назовем самоценной фантастикой. Однако серьезные возражения вызывает стремление В. М. Чумакова вовсе исключить такого рода фантастику из искусства. Дело в том, что самоценной, определяющей структуру произведения фантастика является не только в научной фантастике, но и в сказке. А едва ли возможно и уж, конечно, нецелесообразно исключать сказку из искусства. Искусство сильно проиграло бы от такой операции.
Вот теперь, отделив фантастическую художественную условность от собственно фантастики, мы можем приступить к классификации фантастики как особой отрасли литературы, самоценной, или «конечной» фантастики, не вдаваясь пока в ее весьма непростые отношения со вторичной художественной условностью.
Деление самоценной фантастики на два типа произведений совершенно очевидно. Их и называют обычно fantasy и science fiction, «просто» фантастикой и научной фантастикой. Нам представляется, что естественной основой для такого деления является не тематика и не материал, который используется в этих двух типах произведений, а структура самого повествования. Назовем их пока 1) повествованием со многими посылками и 2) повествованием с единой фантастической посылкой. Это деление мы производим, опираясь на опыт Г. Уэллса, и не только на его художественную практику. Писатель оставил и теоретическое осмысление этой проблемы, когда противопоставил свое понимание фантастики некоей другой художественной структуре.
Г. Уэллс доказывал необходимость весьма жестокого самоограничения для писателя и в самом фантазировании настоятельно рекомендовал придерживаться строгой дисциплины, в противном случае «получается нечто невообразимо глупое и экстравагантное. Всякий может придумать людей наизнанку, антигравитацию или миры вроде гантелей». Такое нагромождение ничем не управляемых выдумок казалось Уэллсу излишним, мешающим занимательности произведения, поскольку «никто не будет раздумывать над ответом, если начнут летать и изгороди, и дома, или если люди обращались бы во львов, тигров, кошек и собак на каждом шагу, или если бы любой по желанию мог стать невидимым. Где все может случиться, ничто не вызовет к себе интереса». Он считал возможным сделать одно единственное фантастическое допущение и направить все дальнейшие усилия на его доказательства и оправдания.
Одним словом, Г. Уэллс, разрабатывая принцип единой фантастической посылки, отталкивался от некоей адетерминированной модели, всем хорошо известной, привычной, примелькавшейся. А во времена Г. Уэллса такой всем знакомой и предельно артистической моделью действительности, практически совершенно свободной от детерминизма, считалась волшебная сказка. Во времена Г. Уэллса она и была повествованием со многими посылками, поскольку в сказке «все может случиться», она дает право на появление ничем не мотивированных чудес.
Сразу нужно оговориться, что речь в данном контексте может идти только о литературной сказке, а не о фольклорной. Разница существенная, поскольку литературная сказка не пережила той сложной эволюции, которую проделала сказка фольклорная, прошедшая путь от «священного» рассказа к «профанному», т. е. к художественному. Литературная сказка в творчестве Д. Страпароллы рождается сразу как рассказ профанный и фантастический в самом прямом значении этого слова, поскольку в буквальный смысл изображенных в ней событий никто не верит. Фантастика литературной сказки находится за гранью веры, а поэтому она допускает любые чудеса. В фольклорной же сказке есть свой строгий детерминизм, поскольку рождается она на основе определенного мировосприятия и это мировосприятие отражает. Поэтому фольклорная сказка сохраняет относительно устойчивый круг фантастических образов и ситуаций. Что же касается литературной сказки, то она куда более открыта для разного рода веяний, охотно пользуется она и аксессуарами из арсенала научной фантастики. В современной литературной сказке мы можем встретиться не только с феями, волшебниками, говорящими животными, ожившими вещами, но и инопланетянами, роботами, космическими кораблями и пр.
Такую художественную модель со многими посылками можно было бы назвать игровой фантастикой или повествованием сказочного типа. И не следует ставить знак равенства между «сказочной фантастикой» и «повествованием сказочного типа». С выражением «сказочная фантастика» прочно связано представление о тематически определенной группе образов, восходящих к фольклорной сказке и к традициям литературной сказки XVII в. - сказки о феях. Говоря же о сказочном повествовании, мы имеем в виду иное.
Когда речь идет о конкретном фантастическом произведении, интуитивное восприятие его читателем как fantasy, сказки или научной фантастики определяется не столько фактурой самих фантастических образов, не столько тем, действует ли там говорящее животное, маг, привидение или инопланетянин, сколько всем характером произведения, структурой, типом повествования и той ролью, которую выполняет фантастический образ в конкретном произведении. Только формальная принадлежность к одной из систем фантастической образности еще не дает основания отнести то или иное произведение к научной фантастике или сказке. Поэтому мы и не можем целиком соотнести сказочное повествование со сказкой и приравнять художественную модель со многими фантастическими посылками - игровую фантастику - к фантастике сказочной.
В сказочном повествовании, или повествовании со множеством посылок, создается особая условная среда, особый мир со своими законами, которые, если смотреть на них с позиций детерминизма, кажутся полнейшим беззаконием. В произведении игровой фантастики «все может случиться» независимо от того, где происходит действие - в тридесятом ли царстве, на далекой планете или в соседней квартире. Понятие повествования сказочного типа не равнозначно понятию сказки, структуру повествования со многими посылками мы можем встретить за пределами сказочного жанра. Повествование же с единой фантастической посылкой - это рассказ о необычайном и удивительном, рассказ о чуде, соотнесенный с законами реальной, детерминированной действительности.
Итак, если говорить о фантастических художественных произведениях, то здесь различается фантастика как часть вторичной художественной условности и самоценная фантастика, в которой в свою очередь выделяется два типа повествовательных структур: а) повествование сказочного типа, или игровая фантастика и б) повествование об удивительном и необычайном. У этих разновидностей фантастического разные функции, различный характер связи с познавательным процессом и даже разное происхождение.
Сначала попробуем выяснить, каковы истоки фантастической художественной условности, и здесь трудно будет обойти как раз гносеологический аспект проблемы. Мы уже говорили о том, как в процессе познания рождается фантастический образ. Дальнейшая его судьба также определяется познавательным процессом.
Вопрос о том, жить или умереть какому-то фантастическому образу и какова будет эта жизнь, решается не в сфере искусства, а в общемировоззренческой сфере. Относительно сказочных образов этот вопрос был поставлен в свое время Н. А. Добролюбовым в статье «Народные русские сказки». Критик заинтересовался тем, насколько верит народ в реальность сказочных персонажей и чудес, и в тех риторических вопросах, которые он задает себе, просматривается любопытное противопоставление: или сказочники и их слушатели верят в действительное существование тридесятого царства, в могущество колдунов и ведьм, «или же, напротив, все это у них не проходит в глубину сердца, не овладевает воображением и рассудком, а так себе, говорится для красы слова и пропускается мимо ушей».
Далее критик замечает, что в разных местностях и у разных людей отношение к этим образам может быть различным, что одни верят больше, другие меньше, «для одних уже превращается в забаву то, что для других служит предметом серьезного любопытства и даже страха». Но как бы то ни было, способность фантастического образа завладевать рассудком и воображением, возбуждать «серьезное любопытство» Н. А. Добролюбов связывает с верой в реальность этих персонажей.
Интересно, что и современный исследователь сказки В. П. Аникин даже самую сохранность некоторых сказочных мотивов ставит в прямую зависимость от существования живой веры в судьбу, колдовство, магию и пр., пусть даже эта вера до предела ослаблена. Анализируя мотив выбора невесты в сказке «Лягушка-царевна», где каждый из братьев пускает стрелу, исследователь замечает: «По-видимому, в какой-то ослабленной форме эта вера (в судьбу, которой герои вручают себя. - Т. Ч.) еще сохранялась, что и дало возможность древнему мотиву сохраниться в сказочном повествовании.».
Итак, фантастический образ сохраняет относительную самостоятельную ценность до тех пор, пока существует хотя бы слабая, «мерцающая» (Э. В. Померанцева) вера в реальность, фантастического персонажа или ситуации. Только в этом случае фантастический образ интересен своим собственным содержанием. Когда же в связи с изменениями в мировоззрении доверие к нему нарушается, фантастический образ как бы утрачивает свое внутреннее содержание, становится формой, сосудом, который можно заполнить чем-то другим.
Раннее художественное сознание, которое не знает еще многозначности художественного образа и сознательной вторичной условности, вполне может не уберечь, не сохранить такие «опустевшие» образы. Так, предполагают фольклористы, были потеряны многие сказочные мотивы, к которым из-за изменения в мировосприятии и условиях жизни люди утратили интерес. Подобное сознание может создавать прекрасные высокохудожественные произведения, но форм условной образности не знает.
Таким в давние времена было мышление создателей народных сказок, и история превращения человека в медведя, которая, по справедливому замечанию Ю. Манна, в глазах нашего современника сама по себе не. имеет смысла, для наших отдаленных предков не имела и не могла иметь никакого другого смысла и только этим единственным значением и была интересна. Такую же совершенную тождественность пластических образов «изображаемому, идее, которую стремится выразить художник», видит Г. Гейне и в античном искусстве. Там, «например, странствия Одиссея не означают ничего, кроме странствий человека, бывшего сыном Лаэрта и супругом Пенелопы и звавшегося Одиссеем…». Иное дело в искусстве нового времени, в средневековом искусстве, которое Г. Гейне называет романтическим. «Здесь странствия рыцаря имеют еще эотерическое значение; они, быть может, воплощают жизненные скитания вообще; побежденный дракон - это грех; миндальное дерево, издали столь живительно благоухающее навстречу герою, это троица: бог-отец, бог-сын и бог-святой дух, сливающиеся в то же время в единство, подобно тому как скорлупа, волоконце и ядро представляют собой единый миндаль».
В становлении этого нового типа художественного сознания немалая роль принадлежит аллегории, на которую впоследствии так ополчились романтики и о которой весьма неодобрительно отзываются и современные исследователи. Кстати, Г. Гейне в приведённом выше отрывке говорит в первую очередь как раз об аллегории. Слов нет, аллегория, закрепляющая за образом единственное значение, весьма ограничена в своих возможностях, и ко времени рождения романтизма эти ее художественные возможности были во многом исчерпаны. Но ведь закрепляла-то она пусть единственное, но не прямое, а переносное значение образа. А к такому видению нужно было еще приучить, через эту ступень нужно было шагнуть, чтоб прийти к романтической многозначности образа.
Такое развитое художественное сознание, которое освоило уже иносказательные формы образности, сохраняет фантастический образ, утративший связь с мировоззренческой базой, но наполняет его новым содержанием, и тогда, по словам Г. Уэллса, «интерес во всех историях подобного типа поддерживается не самой выдумкой, а нефантастическими элементами». Такой образ, по выражению С. Лема, несет сигнал, но не воплощает его содержания.
Таким представляется нам путь от прямого познавательного образа к вторичной художественной условности: в фантастическую художественную условность образ или идея превращаются тогда, когда к ним утрачено доверие. Этим как бы завершается процесс пересмотра прежних верований и заблуждений.
Такова судьба почти всех сказочных чудес; в сознании просвещенной части общества сказочная фантастика отделяется от действительности гораздо раньше, чем в сознании народных низов. Как мы видели, еще в конце XIX в. народ «полуверит» событиям, о которых повествует сказка. Для Д. Базиле, Ш. Перро и их последователей (XVII в.) сказка - уже свободная игра воображения, поэтическая безделушка или изящное иносказание.
В литературной сказке прежние сказочные образы и мотивы продолжают жить и даже обрастают новыми деталями, но они претерпевают значительную внутреннюю перестройку: в литературной сказке старые чудеса постепенно утрачивают свой буквальный смысл, они как бы «дематериализуются», становятся символом, иносказанием и т. д.
Интересно, что Э. Тейлор отводил «огромную умственную область», лежащую между верой и неверием, для «символических, аллегорических и пр. толкований мифа». Иносказательное прочтение мифологического образа начинается тогда, когда доверие к нему утрачено или, во всяком случае, пошатнулась вера в буквальное соответствие его действительности, т. е. когда образ начинает восприниматься как фантастический. Особенно показательна в этом плане трансформация одного из самых распространенных сказочных мотивов - мотива превращения. В народной сказке превращения материальны и буквальны: человек действительно превращается в мышь, в иголку, в колодец и т. д. с последующим возвращением первоначального облика. А вот в сказках Ш. Перро такие превращения зачастую условны.
Так, в народных сказках нередки сюжеты о женихах, превращенных в животных, которым любовь невесты возвращает человеческий облик. Есть в сказках и другой устойчивый мотив: герой, обычно младший сын, сидит на печи, слюни по щекам размазывает, а потом превращается в красавца добра молодца. В том и в другом случае эти превращения буквальны и материальны.
В сказке Ш. Перро «Рике-с-хохолком» многое напоминает оба эти сказочные мотива, но превращение в конце Рике в красавца оказывается не реальным, а воображаемым, и автор весьма пространно говорит об этом: «И не успела принцесса произнести эти слова, как Рике-с-хохолком предстал перед ней самым красивым в мире молодым человеком, самым стройным и самым приятным. Иные, правда, уверяют, что дело тут вовсе не в чарах фей, но что одна любовь виновата в таком превращении. Говорят, что когда принцесса хорошенько подумала о постоянстве своего возлюбленного, о его скромности и о всех добрых сторонах его души и ума, она после этого уже не видела ни кривизны его тела, ни уродства его „лица“».
Современные сказочники давно уже не воспринимают сказочные превращения как нечто буквальное. Особенно последователен в этом. отношении Е. Шварц. У него превращения выглядят больше как иносказание, как намек на реальную, а вовсе не сказочную действительность. Так, в пьесе «Тень» (по Андерсену) всплывает сказочный сюжет о царевне-лягушке. Героиня пьесы утверждает, что это была ее двоюродная тетя. «Рассказывают, что царевну-лягушку поцеловал человек, который полюбил ее, несмотря на безобразную наружность. И лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину… А на самом деле тетя моя была прекрасная девушка и она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку… Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить».
Как видим, это вовсе не буквальное превращение, иносказательный смысл его в данном случае подчеркнут, намеренно обнажен. Использование же сказочных образов в других литературных жанрах еще дальше уходит от первоначального смысла.
Судьба сказочного мотива превращения может служить своего рода моделью жизни фантастических образов, рождающихся на основе образов познавательных, так как они обладают свойством переживать ту мировоззренческую атмосферу, которая их породила. Так образуется круг образов и мотивов, которые живут и продолжают «работать» в искусстве, когда уже давно кануло в вечность мировоззрение, создавшее их и воспринимавшее их как воплощение самой действительности.
Такой образ, вышедший за пределы верования, Э. В. Померанцева называет «образом-стандартом»: «Корнями своими он восходит к древним верованиям, однако укреплен и уточнен в представлении современного человека не мифологическими рассказами, а профессиональным искусством - литературой и живописью…Древние мифологические представления легли в основу как фольклорных, так и литературных произведений о русалке - демоническом женском образе. С течением времени сложный фольклорный образ блекнет, стирается, верование уходит из народного быта. Литературный же образ русалки, чеканный и выразительный, живет как явление искусства и способствует жизни этого образа уже не как элемента верования, а как пластического представления в массовом искусстве, в быту и в речи».
Такие образы, переместившиеся за грань веры и не воспринимаемые в своем буквальном смысле, каждая эпоха и каждый художник вправе наполнить своим индивидуальным содержанием. А. А. Гаджиев считает, что подобная склонность к использованию образов старинных легенд, мифов и преданий органически присуща романтическому типу художественного мышления, поскольку проблемы современности романтик ставит «во плоти событий и явлений, которые должны восприниматься читателем как нечто чужое и малоизвестное, далекое от повседневной окружающей его жизни», а для этой цели как нельзя более подходят ставшие фантастическими образы языческих богов, стихийных духов и пр.
Однако этим дело не ограничивается. Догадавшись, что мысль способна создавать нечто в природе не существующее и даже вовсе невозможное, человек может уже вполне осознанно пользоваться этим свойством своего мышления и научиться конструировать фантастические образы для развлечения или других, более благородных целей, вполне понимая при этом их фантастичность.
Пути здесь бывают различные. Это может быть переосмысление и перестройка образа-стандарта. Так созданы свифтовские гуингнмы; основу их составляет сказочный образ говорящего животного. Художник - что наблюдается особенно часто - может пойти по пути овеществления метафоры. Сама по себе метафора не является фантастикой, но, представленная во плоти, становится ею. Таким путем созданы градоначальник с фаршированной головой у М. Е. Салтыкова-Щедрина, пылающее сердце Данко у М. Горького и многие другие образы. Нередко встречается и сознательная гиперболизация, смещение реальных пропорций, смешение противоположных начал.
Но вот что характерно. Конструируя такой образ, писатель невольно ориентируется и опирается на некие заготовки и образы, уже имеющиеся в ранее созданных системах фантастической образности. Как бы ни был оригинален вымысел Н. В. Гоголя в повести «Нос», он явно ориентирован на сказочную традицию; в научную фантастику, например, он не впишется. Повторяем, принципиально новая образная система в фантастике выковывается только в недрах познавательного процесса, а не в собственно художественном творчестве. В искусстве же, во всяком случае, в пределах вторичной художественной условности, на разные лады варьируются, сочетаются, перемешиваются, переосмысливаются и перекраиваются уже имеющиеся в запасе образы, идеи, ситуации, созданные «отлетом фантазии от жизни» (В. И. Ленин) в процессе познания.
И наконец, возможность фантастической условности кроется в самих способах обработки материала в художественном творчестве, в принципах. художественной типизации. Всякая предельная концентрация мысли или действия в изображаемом явлении (ситуации) выводит это явление за грань возможного, жизненно достоверного, следовательно, создает нечто фантастическое. А без подобной концентрации мысли, тенденции невозможно само искусство. Вот почему и писатель-реалист, даже если он может обойтись без языческих богов или сказочных персонажей, от других форм условной фантастической образности далеко не всегда отказывается.
Ф. М, Достоевский, вообще предпочитавший предельные ситуации, прямо сближает понятия «фантастическое» и «исключительное»: «У меня свой особый взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет фантастическим и исключительным, для меня составляет самую сущность действительного». Как видим, под фантастикой Ф. М. Достоевский понимает предельную концентрацию сущности изображаемого явления, которая выводит его за границу жизненного правдоподобия, как и любое резкое отступление от такого правдоподобия. В этом плане интерес представляет определение, которое Ф. М. Достоевский дает своей повести «Кроткая».
Писатель назвал произведение «фантастическим» и счел нужным пояснить, какой смысл вложил он в это слово, поскольку содержание повести, по словам писателя, «в высшей степени» реально. Фантастичным писатель называет «прием стенографа», т. е. как бы документальную запись беспорядочных мыслей человека, находящегося в смятении и пытающегося разобраться в происшедшем. Далее Ф. М. Достоевский ссылается и на В. Гюго, который в одном из своих произведений «допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту». Однако без этой невозможной, а следовательно, фантастической (в понимании Ф. М. Достоевского) ситуации не было бы и самого произведения.
Одним словом, возможность и даже неизбежность фантастики, являющейся частью вторичной художественной условности, коренится в самой специфике искусства и художественного творчества.
Если «формально-стилевая», или условная фантастика является составной частью художественной условности и как бы растворена, рассредоточена во всем искусстве, то самоценная фантастика представляет собою особую отрасль литературы и происхождение ее несколько иное.
Происхождение повествования со многими посылками, или игровой фантастики теряется в далеких временах: корни его следует искать в традициях карнавала, занимающих столь большое место в культуре всех народов на определенном этапе их развития. Карнавал, разумеется, не был фантастикой ни в плане гносеологическом, ни в литературном плане, как не был он и пародией на реальный мир, но именно там, в карнавальной перестройке мира, кроются истоки как игровой литературной фантастики, так и литературной пародии.
Карнавал по утверждению М. Бахтина, был второй жизнью народа, вторым лицом мира, не серьезным, а смеющимся. Это был мир, пересозданный по определенным правилам игры, принятым всеми. В игру включались все высшие ценности, карнавальному осмеянию подвергались бесспорные авторитеты. Карнавальное мышление не создает прямой комической фантастики, поскольку играет оно с еще не познанным миром, и карнавальные и мистериальные черти не были вполне фантастикой, не были разоблаченной верой, которой легко играть. Но вместе с тем карнавальное сознание не мифологично; ведь в этой игре человек чувствовал себя демиургом, хозяином мира, которым он так смело играл, пересоздавая, переделывая его. И это сознание хорошо воспринимало своеобразную иллюзорность карнавального бытия: «папа шутов» оставался все-таки шутом, а не папой. Карнавал исповедовал логику «обратности», переворачивая мир наизнанку и хорошо понимая временность и иллюзорность такой перестройки.
Карнавальное «переодевание» мира у младенческих народов имело, безусловно, познавательное значение, как и игры детей. Играя с миром, человек познавал его, испытывал его прочность, искал границы его пластичности. Прошли века, и человечество повзрослело. Карнавал утерял свое былое значение, но свое право свободной, не скованной никакими законами детерминизма игры с миром он передал искусству. А человеку порой по-прежнему хочется затеять с миром веселую игру, помять его в руках, почувствовать его послушную податливость. Тогда рождаются рассказы барона Мюнхгаузена. Или Ийона Тихого. Как видим, адетерминированная модель действительности, фантастика многих посылок, вырастает вовсе не из сказки, и все же мы не без основания назвали ее повествованием сказочного типа.
Дело в том, что действие сказки относится к так называемому мифологическому времени, когда мир был совсем другим, и происходит в «некотором» или даже «тридевятом» царстве, где также действуют иные законы. Когда-то это имело смысл буквальный и конкретный (тридевятое царство, как считают специалисты, - это царство мертвых), но постепенно он был утрачен и мир сказки расположился вне реального времени и пространства, точнее в условном пространстве и времени, а в условном мире могли происходить самые невероятные события. Так новая традиция литературной сказки соединяется с идущей из давних времен традицией карнавальной игровой перестройки мира. Вместе они и формируют то, что мы называем игровой фантастикой, повествованием сказочного типа со многими посылками и что англо-американская критика называет fantasy. Такая фантастика самоценна, поскольку здесь ценится самый вымысел, самая игра.
Детерминированная модель действительности в фантастике, повествование с единой фантастической посылкой или, как мы назвали его, повествование об удивительном и необычайном, имеет иную судьбу. Происхождение его тоже достаточно давнее, и связано оно с формированием понятия чуда и с развитием одной исключительно важной способности человека - удивляться. В какой-то степени способностью удивляться и проистекающим из нее любопытством природа наделила уже высших животных, но только у человека эта способность постепенно становится потребностью, а любопытство превращается в научную любознательность, в результате чего процесс познания мира приобретает самоценный характер. Современному человечеству познание необходимо уже не только потому, что помогает выжить, но и само по себе, потому что человеку интересно знать, каков мир, в котором он живет. И в этой эволюции человеческого интеллекта немалую роль сыграли те самые сверхъестественные чудеса, к которым ныне относятся с откровенным недоверием.
Что же такое «чудо»? В определениях, которые дают этому слову толковые словари, чудеса связываются с проявлениями сверхъестественной силы. Забегая вперед, заметим, что это исторически преходящее и практически уже преодоленное понимание чуда. И главное в чуде все же не бог и не волшебство. Сущность его состоит в том, что это нечто из ряда вон выходящее. Чудо - это непременно нарушение естественных законов мира, нечто несогласное с законами природы, обычно, без сверхъестественного вмешательства, нерушимыми. А это заставляет предположить, что чудеса появились не сразу. Для этого необходимы были по меньшей мере два условия: 1) чтоб мир приобрел относительно устойчивые очертания в сознании человека и 2) чтобы появились некие силы, не слитые с природой, стоящие над нею и могущие вмешиваться в ее жизнь.
Чудес не было и не могло быть в период господства оборотнической логики и фетишистского мировосприятия. Оборотническому сознанию мир представляется настолько пластичным, что каждая вещь может превратиться в любую другую вещь. Нет четкой границы между вещами и явлениями, между природой и человеком. Таково естественное состояние мира, и поэтому любое превращение здесь не является чудом.
Подобная модель безгранично пластичного мира современным мышлением, привыкшим к строгому детерминизму, воспринимается уже с трудом. Однако были времена, когда модель мира, где все может случиться, по выражению Г. Уэллса, была единственной и воспринималась как нечто вполне естественное. Отголоски такого представления о мире частично дошли до наших дней как раз через волшебную сказку и народное эпическое сказание.
Действие сказки обычно отнесено к неопределенному прошлому, к так называемому мифологическому времени, когда мир был иным, непохожим на современный - «когда текли молочные реки», «когда звери умели говорить». И не только в этих сказочных формулах видим мы смутное воспоминание об ином устройстве мира, вернее об ином представлении о нем, но и в самой структуре сказки, в ее интонации.
Мы привыкли говорить о чудесах волшебной сказки. Но ведь чудесами они являются только в нашем восприятии. Внутри же самой сказочной действительности, как правило, нет никаких чудес. Выражается это, в частности, в отсутствии реакции удивления у сказочного героя: заговорит ли с ним встреченный на дороге зверь, попросит ли птица не убивать ее детенышей, начнет ли волшебная дубинка колотить его врагов - все воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Даже мотивировки сказочных чудес - магические слова или действия - выглядят скорее как простая констатация естественной последовательности событий, чем как действительное объяснение чего-то из ряда вон выходящего: ударился о сыру землю - обратился добрым молодцем; влез коню в одно ухо, вылез в другое - стал красавцем писаным; попил водицы из козлиного копытца - обратился козленочком и т. п. Кстати, сказочно-магическая формула «влез коню в одно ухо, вылез в другое» как бы навечно закрепила представление о беспредельно пластичном пространстве. Вот эта атмосфера отсутствия чудес сохраняется в сказке, в басне, становясь одним из признаков жанра, его законом.
Ту же интонацию находим мы и в эпических сказаниях, повествующих о древних героях, их подвигах и приключениях. Ведь действие эпоса, как и сказки, относится к давно минувшим временам, когда все это было возможно и естественно. Герой эпоса принимает действительность как данность, не размышляет над нею, не удивляется ей, а действует, воспринимая как естественные любые обстоятельства.
Впоследствии такая интонация, которая как бы игнорирует чудо, не замечает его, может быть воспроизведена в художественном произведении с той или иной целью. Такое намеренное игнорирование чуда в современной литературе - определенная условность, специальный прием.
Но было время, когда чудеса не нужно было игнорировать, просто потому что их вовсе не было. И, как мы уже сказали, второй причиной этого, кроме удивительной пластичности мира в восприятии древнего человека, было отсутствие богов, существующих вне природы и властвующих над нею. Богами были сами явления природы. И каждый предмет, каждое явление было богом. Небо было богом. Недаром Зевс, прежде чем превратиться в великолепного олимпийца, был и небом, и землей, и быком, и орлом. Богом могли быть дерево, ручей. Куча камней - «герма», - служащая ориентиром в пути, тоже была богом прежде, чем появился Гермес.
И уже спустя многие века «на месте одаренных волей и сознанием предметов природы выступают, подчас не вытесняя их и мирно уживаясь с ними, духи или боги, для которых эти предметы являются уже не только жилищем и орудием их действия. Такой бог, имеющий своей обителью видимую часть природы, но не слитый с нею неразрывно, уже не зависит всецело от ее судьбы; его деятельность не исчерпывается деятельностью природных сил, к которым он приурочен, - он обретает свободу действия».
Вот такой бог со свободной волей уже может творить чудеса, он может вмешиваться в жизнь природы как бы извне, изменять ее, нарушать естественный ход событий и явлений, как впоследствии единый христианский бог может делать с созданным им миром все, что ему заблагорассудится. Такое возрастание могущества богов, если оставить в стороне чисто социальные причины, было одним из последствий постепенного постижения окружающей реальности, вовсе не такой уж податливой, как это представлялось оборотническому сознанию.
В своих попытках магического воздействия на природу человеку все больше приходится считаться с ее свойствами. Возникает некая иерархия самих возможностей воздействия на природу. Не всякий человек может добиться от природы покорной пластичности. Это доступно только кудесникам. Да и волшебник не все может: «Он не станет с заклинаниями шествовать по водам, а если попытается, заклинания его подведут. В пустыне не встретишь заклинателей дождей, а только там, где дожди выпадают. Ни один кудесник не будет добиваться, чтобы зимой родился хлеб. Неподатливость реальности постепенно убеждает в том, что для нее требуются более сильные заклинания; люди начинают думать, что одолеть суровые законы природы способны лишь самые могучие силы - боги, судьба». Все это вместе взятое вело к формированию в сознании людей понятия чуда как чего-то сверхъестественного, нарушающего обычный порядок вещей.
В таком виде понятие чуда перешло к монотеистическим религиям и там укрепилось. Особенно это характерно для христианства, оказавшего такое большое влияние на всю европейскую культуру. «Чудо стало нормой для христианского мировоззрения», «исходным пунктом христианской логики».
Как видим, чудеса были сравнительно поздним историческим приобретением. Они рождаются с появлением развитых форм мифологического и религиозного мышления. И это значительное приобретение. Оно свидетельствует, во-первых, о накоплении уже большого опыта наблюдений над природой и, во-вторых, о дальнейшем развитии творческого сознания.
Пока мир пластичен, а боги равнозначны природе, в мире нет чудес, поскольку окружающие явления могут страшить, ужасать, но не удивлять: чему удивляться, если поведение каждого бога и есть его естественный характер. Понятие же чуда непременно заключает в себе парадокс - чудо всегда «неестественно», а потому оно удивляет, поражает. Удивление же Гегель называет основой всякого творческого исследования - и научного, и художественного.
Чудо могло появиться только на фоне детерминированной действительности, на фоне уже известного и привычного, а потому всегда вызывало к себе особый, повышенный интерес своей необычностью, непохожестью на рядовые явления. С чудом человек встречался, когда выходил за пределы привычного, уже освоенного опытом. Хотя за многие века дальнейшего развития человечества чудеса прочно связались с религией в сознании людей, не религия породила их. Они родились в противоборстве человека с природой по мере «повзросления» его разума и накопления опыта. Религия только поработила чудеса, а потом научилась и специально фабриковать их, обманывая простодушных людей и искажая таким образом великое творческое чувство удивления. Религия дискредитировала чудеса, и это наложило отпечаток на их восприятие.
Только в последние века чудо стало постепенно высвобождаться из-под власти религии, и тогда открылась его истинная природа. В тех определениях, которые дают толковые словари, зафиксировано традиционное пренебрежительное отношение к чудесам и их природа почти не выявляется. Но вот полушутливое, полусерьезное определение чуда, сделанное Г. Уэллсом в рассказе «Чудотворец»: «Чудо - это нечто несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли».
Рассказ этот написан с улыбкой, и за чистую монету все там принимать, разумеется, не следует. И все же присмотреться повнимательнее к этому определению не мешает. Оно явно делится на две части, и собственно определением чуда может быть названа только первая часть - «нечто несовместимое с законами природы», вторая же часть - «и произведенное усилием воли» - является уже его мотивировкой, объяснением. А чудо непременно требует объяснения, вопиет о мотивировке как раз потому, что выходит за рамки привычного и понятного. И все рассуждения героев рассказа Уэллса - это попытки объяснить чудо, понять, как такое могло случиться. Фодерингей, на которого внезапно свалился дар чудотворца, высказывает предположение: «Моя воля, наверное, обладает каким-то странным свойством». А мистер Мэйдиг, проявляющий интерес к оккультным наукам, глубокомысленно рассуждает в связи с чудесами Фодерингея о сокровенном законе, более глубоком, чем законы природы.
В конечном итоге и в определениях, которые дают слову «чудо» словари, ссылка на волшебство, магию и бога - это тоже не само определение, а уже объяснение, мотивировка чуда.
Наиболее общую, свободную от преходящих и случайных мотивировок характеристику чуда дал, на наш взгляд, Б. Шоу в пьесе «Назад к Мафусаилу»: «Чудо - это то, что невозможно и тем не менее возможно. То, что не может произойти и тем не менее происходит». В таком определении природа чуда проявляется наиболее наглядно. И природа эта двойственна и парадоксальна. Чудо оказывается на грани веры и неверия потому, что мы твердо знаем, что такого не может быть и поэтому не верим ему, и в то же время знаем, что оно есть, так как уже случилось, а поэтому не можем ему не верить.
На грань веры и неверия Ю. Кагарлицкий помещает художественную фантастику, особо подчеркивая ее двойственную природу. Однако он настаивает на эстетической сущности этой двойственности. Когда же речь идет о чуде, мы сталкиваемся, на наш взгляд, с двойственностью не эстетической, а познавательной. Чудо принадлежит не искусству, а самой действительности, поэтому с чудом мы встречаемся не только в искусстве, но и в науке. Что такое парадокс, как не чудо? Его природе свойственно то же внутреннее противоречие, которое характерно для чуда. Всякое большое открытие в науке это, как правило, разоблаченное, т. е. объясненное чудо. А за последнее время наука вообще перестала стесняться этого слова. Так, одним из методов обнаружения внеземных цивилизаций считаются поиски «космического чуда». Это странное словосочетание стало уже научным термином. Под ним понимают «противозаконное» поведение материи или пространства, которое нельзя объяснить, исходя из известных нам законов и свойств пространства, времени и материи. В не столь уж далеком прошлом «подозрение» падало на пульсары, до тех пор, пока этому явлению не было найдено иное, естественное объяснение. Столкновение с чудом, повторяем, будит творческую мысль, так как чудо уже одной своей «противоестественностью» требует объяснения. И оно остается чудом до тех пор, пока не объяснено.
Вот этот естественный процесс и тормозился религией, поскольку чудеса с самого начала попали под ее власть. Религия затушевывает двойственность познавательной природы чуда, так как предлагает для всех без исключения чудес единую мотивировку, универсальное объяснение. Чудеса совершались по воле бога. На худой конец, по воле его вечного противника и врага рода человеческого. А бог был всемогущ. Да и дьявол обладал немалой силой. Поэтому двойственность восприятия чуда не проявлялась или же проявлялась в до предела ослабленной форме - раз чудеса от бога, им нужно неукоснительно верить; то положение между верой и неверием, которое требует объяснения и будит мысль, просто не допускалось.
Мышление, свободное от влияния религии, не может дать чудесам единого объяснения - каждое чудо индивидуально, - но оно допускает некое единое основание для чудес - относительность наших знаний о природе. Чудеса, основанные на волшебстве, давно приобрели уже характер литературной условности; в представлении же современного человека чудеса - это явления, противоречащие не столько законам природы, сколько нашим далеко не полным знаниям о ней.
Из словарных определений чуда следует выделить определение В. Даля, в котором дано такое толкование этого слова: «Чудо - всякое явление., которое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». К этому толкованию очень близко определение чуда, которое дает Ю. Кагарлицкий в своей книге о фантастике: «Чудо - это нечто противоречащее законам природы, как мы их понимаем, иными словами - нечто выходящее за рамки наших сегодняшних представлений».
Как видим, прощание с религиозным миросозерцанием вовсе не означало гибели чудес. Меняется просто ориентация - чудесам стали искать не сверхъестественное, а логическое объяснение, состояние же научного знания твердое понимание неполноты, относительности его - разрешало чудеса. Такова была одна из причин (далеко не единственная) бурного расцвета фантастики в конце XIX - начале XX вв.
Понимание относительности знаний нельзя считать приобретением нашего века. О том, что на свете немало чудес, даже не снившихся нашим мудрецам, знали и до Шекспира, это предполагали уже древние. В наше время относительность знаний становится не только всеобщим убеждением, но и неотъемлемой составной частью научной методологии и даже бытового мышления. Все это приводит к тому, что в чудесах, изображаемых в фантастике, появляется дополнительный оттенок: они вероятностны и объясняют их, исходя из предполагаемых, а зачастую и просто вымышленных законов природы. Если перефразировать известные слова Аристотеля, то можно сказать, что современная фантастика необычайного и удивительного изображает не то, что произошло, а то, что могло бы произойти, если бы существовал такой-то закон природы или если бы было сделано такое-то открытие или изобретение.
А. Громова и Р. Нудельман в послесловии к своему роману «В институте времени идет расследование» прямо заявляют, что путешествие во времени, изображенное там, оказалось возможным только благодаря вымышленным свойствам времени, но тут же добавляют, что современная наука предполагает у времени множество свойств нам не только не известных, но и органически не воспринимаемых нами. Это обстоятельство и дает известный простор чудесам и сохраняет за ними какую-то степень достоверности.
Как видим, и фантастика необычайного, как и условная фантастика, имеет прямое отношение к познавательному процессу и появление ее становится следствием развития потребности в удивительном. В произведениях этого рода фантастический образ, идея, гипотеза всегда значимы, они представляют основной интерес и, поскольку изображаемое - чудо, автор старается убедить читателя в том, что оно возможно, применяя для этого все имеющиеся у него средства. И тогда фантастика оказывается действительно внутренним центром произведения, его сердцем.
Итак, самоценная фантастика распадается на повествование сказочного типа и повествование о необычайном, чудесном и удивительном. Первое обязано своим происхождением карнавалу, игровой перестройке мира, ставшей принадлежностью искусства, второе - развитию потребности в удивлении, свойственной человеку.
И современная научная фантастика являет собою пример как раз такого повествования. Об этом говорят даже названия многих научно-фантастических произведений и специализированных журналов: «Необыкновенные путешествия» Ж. Верна, «Эксцентрические путешествия» Поля д"Ивуа и «Необыкновенные научные путешествия» Ле Фора и Графиньи, последователей Ж. Верна, «Рассказы о необыкновенном» И. А. Ефремова и пр. Названия многих научно-фантастических журналов тоже обещают читателям такое удивление: «Поразительная научная фантастика» («Astounding Science Fiction»), «Удивительные истории» («Amazing Stories»), «Сенсационные удивительные истории» («Thrilling Wonder Stories»).
Следуя старому и доброму совету Декарта, мы разделили трудности и расклассифицировали фантастику по системам образов и по типам повествований. Но теперь мы должны честно признаться, что в реальной действительности, в реальном литературном процессе все это выглядит не столь стройно и четко. Любая систематизация неизбежно в какой-то мере схематизирует реальную картину, на деле все оказывается сложнее. Это общеизвестно, ведь природа не классифицирует свои создания, классификацию и систематизацию придумал человек, чтоб не потеряться вовсе в этом потоке явлений. Поэтому, дав такую работающую и довольно удобную схему классификации, мы просто обязаны показать, что реальный процесс все же сложнее этой схемы.
Фантастика - весьма неблагодарный предмет для классификации, потому что в этой области все находится в непрерывном движении и взаимодействии. Прежде всего, положение того или иного образа (идеи, ситуации) за гранью веры не есть нечто раз навсегда данное. Граница между познавательным образом, чудом (в том значении, как было сказано выше) и прямой фантастической условностью весьма подвижна. Мы уже видели, что в истории сказки прямые познавательные образы, прежде чем стать условностью, превратились. в чудеса. В самом деле, что значит утверждение фольклориста, что народ «полуверит» сказочным событиям? Сказочник и его слушатели не верят им вполне, не могут верить, так как знают, что подобное не может произойти ни в их деревне, ни в соседней. Но ведь сказка рассказывает о далеких временах. Кто знает, может тогда такое и случалось? Одним словом, сказочный мотив в такой ситуации поставлен между верой и неверием, т. е. стал чудом. В литературной же сказке, возникшей в образованных кругах общества, эти мотивы утратили всякое право на доверие, стали восприниматься как невозможные ни при каких обстоятельствах.
Новое знание неожиданно может превратить абсолютно невозможное в чудо. Так, античные боги давно стали прямой фантастикой, в реальное и буквальное их бытие никто не верит, воспринимаются они только как некое воплощение стихийных сил природы и знаний, интеллекта древнего человека - их создателя. Однако картина получается несколько иной, если представить их не богами, а посланцами внеземной цивилизации, добрыми или злыми старшими братьями по разуму, что зачастую делают современные писатели. Тогда Апполон со своими музами, Галатея и другие герои древних мифов возвращаются из своего «небытия», вновь оказываются между верой и неверием. Это постоянное «броуново движение» в фантастике объясняется тем, что фантастический образ, с одной стороны, является ближайшим «родственником» вторичной художественной условности и через это родство входит в- семью специфических средств художественной выразительности непосредственно в сфере искусства, с другой стороны, он детище процесса познания в самом широком понимании этого слова (включая и заблуждения) и реагирует на все изменения в мировоззрении общества, в восприятии мира, от чего бы эти изменения ни проистекали - от смены ли религиозных представлений или от развития научного знания.
И фантастика чутко, хотя и по-своему, разумеется, опосредованно фиксирует все изменения, которые происходят в познании человеком мира. Этот процесс бесконечен. Новые знания о мире, количество которых неизменно растет, заставляют постоянно пересматривать, ревизовать старую фантастику. Невозможное вчера сегодня оказывается возможным и, напротив, то, что вчера казалось очевидным, в другое время воспринимается как явная фантастика в самом прямом, каноническом значении этого слова.
Однако дело этим не ограничивается. Фантастический образ движется не только между верой и неверием. Постоянная «диффузия» образов, как уже отмечалось, происходит и от одного типа фантастических произведений к другому. И в произведении сатирическом или философском, где фантастика является прямой условностью, и в сказочном повествовании, и в рассказе о необычайном могут быть использованы тематически близкие мотивы и образы.
Так, гномы, вампиры, привидения или русалки могут быть иносказанием символом, аллегорией, одним словом, художественной условностью, - но могут быть и участниками сказочного повествования или страшного рассказа о необычайном. Кроме того, вероятностный характер современных чудес делает эту границу особенно легко преодолимой, удивительно облегчает превращение фантастики необычайного в формальный прием, допускает комическое ее переосмысление. В творчестве одного и того же автора мы зачастую сталкиваемся как с серьезной разработкой той или иной фантастической идеи, так и с использованием ее в качестве всего лишь условного приема.
Например тема инопланетной цивилизации развита С. Лемом в романах «Солярис» и «Непобедимый» без всякой шутливости, аргументированно и даже с оттенком драматизма. Во «Вторжении с Альдебарана» та же тема оказывается на грани литературной игры, прямой условности, поскольку инопланетяне там поставлены в нелепейшую ситуацию: прекрасно подготовленное вторжение с Альдебарана проваливается, потому что пришельцы не могут наладить контакт со встреченным ими землянином. Им оказывается обыкновенный пьяница, некоординированные движения и несвязную речь которого так и не сумели проанализировать сложнейшие машины пришельцев.
В этом рассказе образы инопланетян и идея инопланетной цивилизации едва ли являются тем центром, к которому устремлены все художественные средства произведения. Напротив, образы инопланетян нужны автору скорее как некие катализаторы, помогающие выявить отвратительную нелепость поведения пьяного человека, т. е. они превращаются в прием. Разумеется, этот рассказ - шутка, но такого рода произведения могут родиться на основе недоверия к чудесам. Если в «Солярисе» и «Непобедимом» побеждает вера, то во «Вторжении с Альдебарана» верх берет недоверие, сомнение и тема получает комический поворот.
Интересно, что нечто подобное наблюдают специалисты и в бытовании мифологических образов в фольклоре. Так, Э. В. Померанцева отмечает, что образ лешего можно встретить в быличке (суеверный меморат), в бывальщине (суеверный фабулат) и в сказке. При этом по мере движения от былички к сказке отношение к этому персонажу явно меняется, поскольку сказки - это жанр занимательного рассказа и «вопрос о степени их достоверности не возникает ни у рассказчика, ни у слушателей».
Одним словом, принадлежность какого-то фантастического образа к тому или иному типу фантастики определяется не столько его фактурой, сколько характером всего произведения, в котором он встречается и, как говорилось, местом этого образа во всей системе изобразительных средств конкретного произведения. Поэтому в самоценной фантастике мы и предлагаем различать не группы фантастических образов, а в первую очередь различные типы повествований.
Однако и между этими типами повествований тоже нет непреодолимой преграды, как нет ее между содержательной фантастикой и вторичной художественной условностью.
Разумеется, в сатирической или философской повести и в сказочном повествовании или рассказе о необычайном фантастический образ выполняет различные функции. В первом случае он является условным приемом, во втором одной из главных составляющих содержания произведения.
Но ведь сказочное повествование - целиком условно, там создается условный мир, воспринимаемый в определенном ключе. Никому в голову не придет подходить к рассказам о путешествиях Ийона Тихого с мерками жизненного правдоподобия или научной истины. Однако и не соотносить этот условный мир с миром. реальным невозможно. Только при таком соотнесении выявляется вся прелесть подобной игры. Ведь играют-то с реальным миром, перекраивая его. А потому самоценность такой игры весьма относительна. Только дети могут увлекаться «чистой» игрой, да и то потому, что для них она не совсем игра.
Литературные же игры в фантастике всегда незаметно перерастают или в сатиру, или в философское иносказание, и повествование сказочного типа в искусстве «взрослых» народов смыкается с прямой вторичной художественной условностью, с литературным приемом. Не случайно, говоря о вторичной художественной условности, мы вынуждены были брать примеры из литературной сказки (Ш. Перро, Е. Шварц). Ведь литературная сказка, в отличие от фольклорной, склонна к прямому морализированию, а это неизбежно ставит фантастику литературной сказки на грань иносказания, условного приема.
Мы подозреваем, что вторичная художественная условность вообще является тем океаном, той «морской гладью», в которую в конечном итоге вливаются все фантастические реки. Во всяком случае, повествование сказочного типа явно обнаруживает тенденцию влиться в этот океан и затеряться в нем. Все это и порождает те трудности и противоречия при классификации фантастики, о которых речь шла во введении.
Граница между фантастикой, являющейся частью вторичной художественной условности и, как правило, сводимой к художественному приему, и фантастикой сказочного типа повествования очень непрочна, размыта. Главным ориентиром здесь служит самоценность фантастики в сказочном типе повествования. Но, с другой стороны, фантастический образ, даже откровенно выполняющий роль художественного приема, остается целиком в границах вторичной художественной условности, не заявляет права на содержание только до тех пор, пока он не получает какой-либо образной конкретизации, не обрастает материальной «плотью». Таков, по свидетельству И. Неупокоевой, образ Демогоргена в «Освобожденном Прометее» Шелли. И. Неупокоева называет его образом-понятием. Но как только подобный образ обрастает материальной плотью, как только образная конкретизация переступает некую невидимую грань, так образ тут же обретает самоценность.
Великанья сущность героев Ф. Рабле, разумеется, символична и вполне поддается словесно-логической расшифровке, поскольку в них воплощена столь важная для Возрождения мысль о величии человека. Однако великаны Ф. Рабле настолько материальны, что эта их «плоть» невольно становится частью содержания, она претендует на самостоятельную, самоценную художественную жизнь, не ограниченную только воплощением нравственно-философской идеи или концепции. Не случайно Ю. Кагарлицкий в своей книге относит роман Ф. Рабле, при всей его явной символичности, к содержательной фантастике, к фантастике как особой отрасли литературы. Одним словом, и здесь практически не встретишь явление в «чистом» виде.
Сложность состоит еще и в том, что использование фантастического образа в произведении зачастую не ограничивается единственной его ролью, что в одном и том же произведении он одновременно выполняет и «формально-стилевую» и «содержательную» функции. Он и самоценен, и иносказателен в одно и то же время.
Так, в романе С. Лема «Солярис» образ мыслящего океана является, вне сомнения, самоценным и содержательным, он значим сам по себе, вне каких-либо иносказаний, так как воплощает гипотезу автора, и в этом плане образ планеты Солярис может быть воспринят как некий внутренний центр произведения. Тем более, что и сам писатель в предисловии подтверждает это читательское ощущение, говоря, что целью автора было показать возможную встречу человека в космосе с Неведомым.
Но тот же роман может быть воспринят и в ином аспекте - как изображение сложности человеческой психологии, как произведение о нравственной ответственности человека, так как за жизнь свою даже неплохой человек, не мерзавец и не преступник накапливает на своей совести немало темных пятен или невольной вины. Солярис помогает выявиться этой вине, поскольку материализует тайные, глубоко запрятанные даже от самих себя мысли обитателей станции, превращает их воспоминания или скрытые желания в живых существ.
В комплексе этих проблем образ океана будет играть роль своеобразного индикатора и восприниматься он может как литературный прием, как художественная условность. И ни один из аспектов проблематики романа не исключает другой, они образуют единую систему, а фантастический образ оказывается многофункциональным. И «Солярис» не является каким-то исключением. То же можно сказать и о «Машине времени», «Человеке-невидимке», «Острове доктора Моро» Г. Уэллса, о «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Толстого, о сотнях произведений современной фантастики.
Итак, фантастика многолика, и в искусстве она играет самые различные роли. Но одновременно она и едина, потому что подчиняется общему для всех ее разновидностей закону образотворчества. Ведь о чем бы она ни повествовала, какие бы причудливые образы и с какой бы целью ни создавала, в основании всех ее созданий лежит общий механизм - тот принцип обобщения знаний о мире, который М. Бахтин назвал «древнейшим типом» образного мышления, «гротескный тип образности (т. е. метод построения образов)».
Понятия «фантастика» и «гротеск» явно находятся в тесном родстве. Многие признаки гротеска, выделяемые современными исследователями, обнаруживаются и в фантастике. И принципиальный алогизм, и ощущение странного, «перевернутого» мира, и способность схватывать и выявлять основные противоречия действительности, суть явления - все это исследователи современной фантастики воспринимают как ее видовые признаки, а исследователи гротеска - как характерные его черты (Ю. Манн).
Более того. Исследователь фантастики пишет, что гротеск «нашел широкое применение в фантастике», и считает, что гротеск в XVIII в. «закрепляется как основной метод фантастики». А исследователь гротеска воспринимает фантастику и преувеличение, к которым гротеск «широко прибегает», как одно из составляющих гротеска и утверждает, что фантастика «характерна для гротеска».
Отношения фантастики и гротеска не так просты, как может показаться. С одной стороны, и в литературе прошлых веков, и в современной можно назвать произведения, для которых определения-характеристики «фантастика» и «гротеск» являются по сути дела взаимозаменяющими, а термины «фантастический образ» и «гротескный образ» оказываются синонимичными. Это относится и к романам Ф. Рабле и Д. Свифта, и к «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, и к повести Н. В. Гоголя «Нос». С другой стороны, «Возвращение со звезд» С. Лема или «Туманность Андромеды» И. Ефремова вполне подходят под рубрику «фантастический роман», но гротескным романом их, конечно, не назовешь. В научной фантастике XX в. мир предстает не пересозданным, а как бы продолженным в своих возможностях. В таких произведениях нет как будто ничего, напоминающего гротеск, и может показаться, что пути гротеска и научной фантастики разошлись. Не случайно в подавляющем большинстве работ о современной научной фантастике гротеск даже не упоминается.
И все же у фантастики и гротеска общие корни, единая основа. Отличие фантастики и гротеска, на наш взгляд, состоит прежде всего в том, что для понимания фантастики определяющее значение приобретает гносеологический момент - отношения веры и неверия, для гротеска он оказывается несущественным. Но когда речь идет об эстетической сущности, о роли фантастики и гротеска в искусстве и о психологических их основах, тут их родство несомненно.
Возможно, что для литературного гротеска последних веков, ставшего уже вполне осознанным принципом создания художественных образов, и не являются главными, определяющими те признаки, которые выделил в гротеске Гегель смешение различных областей природы, безмерность в преувеличениях и умножение отдельных органов. Наверное, можно спорить, является ли основой гротеска карикатура, «чрезмерное преувеличение» или «совмещение резких контрастов», или же весь секрет в алогизме, странности и абсурдности самого жизненного материала, избираемого гротеском. Но, если говорить о «технологии», о первоэлементах гротеска, то Гегель здесь не ошибся: и с фантастикой, и с гротеском непременно связано представление о некоей деформации действительности, о пересоздании ее воображением.
И древние мифы свидетельствуют, что человек мыслил гротескно и «фантастически» задолго до того, как появилось собственно искусство: гротескно было оборотническое сознание, основой которого являлось смешение разных областей природы, гротескно было мышление древнего грека, создавшего чудовищ и великанов (в том числе кентавров и многоруких гекатонхейров), прежде чем мир упорядочился гармонией и родились очеловеченные боги; гротескна была и фантазия древних индусов, придумавших многоруких богов и тысячеголового дракона. Из того же семейства гротескных образов вышли и многоголовый дракон Тифон в греческой мифологии, и библейский Левиафан, и семиглавый змей Лотан в угаритских легендах о Ваале, и трехглавый змей русских сказок.
Разумеется, эта гротескность мышления была неосознанной, и гротеск выделяется как сознательный принцип творчества в исторически довольно поздние времена. Во всяком случае, в искусстве средних веков и Возрождения гротеск еще неотделим от других форм художественной образности, «четко не противопоставлен другим способам типизации».
Но самая эта неосознанность гротеска, в формах которого человек начал осваивать окружающий мир, заставляет предположить, что в гротескном типе мышления воплотились какие-то важные, глубинные, может быть, определяющие черты человеческого интеллекта. Связь гротеска с общими принципами работы человеческой фантазии отмечает Ю. Кагарлицкий. Возможности фантазии вовсе не безграничны, и психологи четко определили, на что она способна: «…комбинирование отдельных элементов („агглютинация“ - склеивание), преувеличение или преуменьшение отдельных сторон действительности, объединение сходного в различном или разъединение реально единого». Вся работа воображения базируется на этих, в сущности, не столь уж сложные мысленных операциях.
Таковы психологические основы любого пересоздания действительности воображением и мыслью человека, и они являются общими и едиными как для фантастики, так и для гротеска.
При работе фантазии, какой бы материал ни осваивался и ни обрабатывался мыслью, эти механизмы включаются автоматически, без участия разумной воли человека. Потому неосознанным является и ранний гротеск, еще не принадлежавший всецело искусству. Он одновременно был и «неосознанной фантастикой».
Таким образом, в гротеске выразились основные творческие возможности фантазии, человеческого интеллекта и наиболее концентрированно выражена устремленность человеческого сознания не к отражению только, а и пересозданию мира: смешение, преувеличение (или преуменьшение), умножение (или уменьшение) его элементов. В гротескном и фантастическом образе мир предстает не таким, каков он на самом деле, а переделанным, пересозданным воображением человека. Здесь кроется секрет удивительного единства всех видов и форм фантастики. В этом смысле фантастикой мы называем и мифологический образ, хотя для его создателей он вовсе не казался фантастическим, и заведомую художественную условность - в основе и того, и другого лежит намеренное или неосознанное гротескное преображение мира.
Но чем же все-таки объяснить, что в искусстве есть фантастические произведения, которые настолько приближаются к гротеску, что практически сливаются с ним («Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле), и есть такие, что, по видимости, не имеют с ним ничего общего («Сердце Змеи» И. Ефремова, например)?
В истории человеческой цивилизации дифференциация явлений происходила постепенно и очень медленно. Не сразу отделялись и правда от лжи, вымысел от реальности. Мифологическое мышление содержало в себе зерна и научного метода, и художественной типизации. Столь же недифференцирован был и гротеск. Освобождение от мифологического мышления, растянувшееся на многие столетия, сопровождалось и постепенным выделением гротеска, пока еще не как литературно-художественного приема, но уже как осознанно-активного принципа взаимоотношений человека с миром. В Европе это выявляется опять-таки в традициях карнавала, с которыми связана была, в первую очередь, игровая фантастика. И логика карнавала гротескна по самой сути своей - в веселом обряде избрания шутовского короля или шутовского папы находим мы то же смешение разных областей природы (в данном случае смешиваются уже полярные по своему значению общественные ценности), которое Гегель считает одним из основополагающих признаков гротеска.
Но, повторяем, это уже гротеск, осознающий себя, и потому не мифологический по природе своей. Осознанный гротеск всегда несет в себе игровое начало. Дальнейшая дифференциация явлений приводит к выделению гротеска литературного, ставшего тоже осознанным принципом художественного творчества, а карнавал передает ему традицию озорной, веселой и вполне осознанной игры с миром, которая не свойственна была гротеску мифологическому.
И с тех пор практически во всех произведениях гротескного плана встретим мы такую игру, от которой автор явно получает удовольствие. Наиболее показательно в этом плане, конечно же, творчество Ф. Рабле. В знаменитой главе о подтирках Гаргантюа все вещи как бы сорваны со своих мест, все они кружатся в причудливом хороводе или, как пишет М. Бахтин, «образы вещей освобождены здесь от логических и иных смысловых связей». Такую игру мы найдем и в творчестве Свифта, хотя в его гротеске куда больше логической четкости и определенности. Явно игровой момент находим мы в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, в рассказе о том, как предки глуповцев пытались у себя порядок учинить: чего только ни делали - и Волгу толокном замесили, и теленка за баню тащили, и в кошеле кашу варили, и комара за семь верст ловить ходили, и острог блинами конопатили. Здесь очевидное нагромождение нелепостей, как и у Рабле, освобождает вещи и явления от устоявшегося, закрепленного за ними значения. Помогает это сделать игра.
Игровое, карнавальное начало в гротеске и фантастике неистребимо, и порой оно вырывается на свободу. Так, в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» этот игровой элемент определяет всю структуру образов, самый характер произведения. Мы имеем в виду явно игровое гротескное соединение современной науки и сказочного волшебства - пифий, авгуров, магии, - научного эксперимента и предмета этого эксперимента огнедышащего дракона и пр. И во всех подобных случаях игра самоценна, она составляет как бы часть содержания произведения. То же можно сказать о «Звездных дневниках Ийона Тихого» С. Лема и о целом ряде других произведений. Игровое начало открывается нам не только в таких явных, бросающихся в глаза алогизмах гротеска. Порой оно не столь заметно, но гротескный образ без него теперь немыслим.
С тех пор как гротеск стал сознательным принципом художественной типизации, он нередко служит определенным целям. Еще Гегель указывал на возможность частичного несовпадения образа и «смысла». Такая возможность открывается опять-таки по мере дифференциации различных способов мышления, обобщения опыта, с выделением и развитием логического, отвлеченного мышления. Тогда конкретный чувственный образ получает возможность выражать содержание более широкое, чем то, что непосредственно заключено в его облике. Появляется стремление к своего рода «разгадыванию» (Гегель) образа, к его дешифровке. Такова судьба не только прямых символов, но практически любого художественного образа, содержащего значительное обобщение.
Стремление к логической дешифровке образа неистребимо в современном человеке, и оно становится существенной составной частью всякого художественного восприятия. В системе такого мышления осознанный, уже не мифологический и даже не карнавальный, а собственно художественный гротеск может заключать «смысл» не вполне адекватный «чувственному образу» и выражать некое широкое обобщение жизненных закономерностей. В этом случае «смысл» будет шире образа.
Когда гротеск поступает на службу к сатире и обличению, он неизбежно приобретает некий иносказательный смысл, поскольку и вводится гротеск «для создания… далеко идущего представления», «когда более ясное, более правильное формообразование не было бы в состоянии выразить имеющийся здесь глубокий смысл». Тогда и прибегают к намеренным смешениям, соединяя несоединимое и смещая реальные пропорции действительности. Логическая дешифровка в этом случае неизбежна.
Эта тенденция проявляется всегда, когда создается фантастический образ или ситуация, в которых есть хоть какой-то элемент иносказательности. Уже Аристофан в своих комедиях «Мир» и «Птицы» прочно подчинил фантастику «нефантастическим целям», и современники его, смеясь на представлениях комедии, узнавали в них недавние политические события, а позднейшие исследователи и комментаторы тратили массу усилий, чтобы восстановить этот «смысл», скрытый за фантастическим образом.
По мере развития в европейской культуре рационалистических принципов мышления за гротеском все больше закрепляется подчиненная, служебная роль. Он поступает на службу сатирико-обличительной или отвлеченно-философской тенденции. Однако и в этом случае далеко не все в гротескно-фантастическом образе поддается расшифровке. Мы уже говорили, что в подобной ситуации тенденция, «смысл» обычно шире образа, но в свою очередь и образ в каком-то отношении шире «смысла», весь он в него не укладывается, точнее «смысл» не поглощает целиком гротескный образ. Уже у Аристофана наблюдаем мы некую «избыточность» гротескно-фантастической ситуации.
В пьесе «Птицы» речь идет о постройке стены, отделяющей небо и землю. Строят стену птицы. Для тех политических иносказаний и поучений, которые являются прямой целью автора, достаточно было бы свершившегося факта такой постройки. Однако Аристофан уделяет немалое внимание вестнику, рассказывающему, как строилась стена и кто принимал в этом строительстве участие - кто из птиц носил камни из Ливии, кто воду, кто месил глину и т. д. При этом занятия птиц определены уже их природной «специализацией» - воду носили чибисы и прочие болотные птицы, а глину месили гуси своими перепончатыми лапами. Этот рассказ вестника, прерываемый вопросами и замечаниями Писфетера, занимает немало места в пьесе и кажется не нужным для ее логического содержания. Но он совершенно необходим для полнокровности фантастики и гротеска.
Наиболее наглядно такое частичное несовпадение образа и «смысла», «избыточность» гротеска и фантастики, выявляются, конечно, у Рабле. Мы сталкиваемся там с разного рода алогизмами и «излишествами» на каждом шагу.
Давно было замечено, что великаны Рабле не имеют определенных размеров: то о них говорится как об обыкновенных людях, то они разрастаются настолько, что удивляться приходится, как земля может носить на себе такие создания. Л. Пинский пишет, что «размеры великанов разрастаются и сокращаются в зависимости от ситуации». Однако одной ситуацией все не объяснишь. Конечно, иногда великанам нужно пображничать с друзьями, а иногда - накрыть языком войско от дождя. Тут требования ситуации очевидны. Однако нет как будто особой нужды в рассказе о том, как паломники заблудились в салате, как попали в рот Гаргантюа, и не ситуацией объясняется подробное изложение всего, что находилось в глотке и во рту великана. Напротив, здесь скорее ситуация измышлена для того, чтобы показать эту немыслимой величины глотку.
Но у Рабле «в этом отношении положение особое. Его смех и его гротеск не подчинены вполне жесткой обличительной тенденции;» смех Рабле амбивалентен (М. Бахтин), и потому гротеск его особый, самоценный. Недаром возникает у Л. Пинского сравнение Рабле с «играющим ребенком, которому просто весело».
Однако и у Свифта находим мы немало «необязательного», хотя гротеск его уже строго логизирован, рассчитан и подчинен определенной тенденции. Для демонстрации относительности понятий совсем не обязательно как будто было уделять так много внимания не только разнице в размерах Гулливера и лилипутов, но и массе комических ситуаций, от этой разницы проистекающих. Автор подробно рассказывает, сколько веревок пошло на то, чтоб связать Гулливера, какую построили телегу, чтоб везти его в город, какой помост, чтоб разговаривать с ним, какие состязания устраивались на его носовом платке и т. д. И дело не только в том, что все цифры и размеры у Свифта приведены в строгое соответствие, но и в том, что ему опять-таки доставляет немалое удовольствие самая эта игра размерами и цифрами, игра, не поддающаяся никакой прямой расшифровке, но совершенно необходимая, поскольку без нее гротеск перестал бы быть гротеском, а стал бы обыкновенным сопоставлением.
То же можно сказать и о Вольтере. Он был поклонником разума и логики, о Рабле отзывался не очень благосклонно, а свои повести писал с определенной целью, с четким философским заданием. И мы теперь называем его повести не фантастическими, а философскими, даже явно гротескную повесть «Микромегас». Философская тенденция этой повести очевидна: ей подчинено и грустно-шутливое сравнение земного человека, выглядящего даже не козявкой, а микробом, с огромным Микромегасом, который знает во Вселенной существ еще больших, чем он. Этой же тенденцией объясняется и появление «карлика» с Сатурна, которому земные океаны оказались по колено. Но ни в какую философскую тенденцию не укладывается их путешествие по солнечной системе, рассказ о том, как они спрыгнули на плоское кольцо Сатурна, переходили с луны на луну, как перепрыгнули на комету, доставившую их к Юпитеру, как наконец добрались до Марса и не нашли там места для ночлега. Сцена разглядывания людей в микроскоп, конечно, поддается философской «расшифровке», но и в ней игры куда больше, чем того требует тенденция.
И еще один пример - из другого века и на этот раз из русской литературы. В «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина гротескные образы Брудастого (Органчика) и градоначальника с фаршированной головой должны продемонстрировать неразумность, безмозглость властей, управителей города Глупова. Однако великолепная сцена починки градоначальниковой головы, с которой обращаются, как с обыкновенной музыкальной шкатулкой, или рассказ о том, как градоначальник с фаршированной головой уходил спать на ледник и ставил вокруг себя мышеловки, явно обладают той же гротескной избыточностью, которую мы отмечали и у Аристофана, и у Рабле, и у Свифта, и у Вольтера.
Как видим, гротеск и фантастика при любой степени их подчинения какой-либо тенденции обладают относительной независимостью, заявляют о своей самостоятельности. При этом во всех случаях, не исключая и Рабле, мы сталкиваемся, пожалуй, не столько с алогизмом, сколько с внутренней, самостоятельной логикой самого гротескного или фантастического образа, не всегда вполне совпадающей с логикой тенденции, которой он подчинен.
И эта внутренняя логика гротескного образа, известная уже Аристофану, скрывает в себе то правило единой фантастической посылки, которое сформулировал Г. Уэллс, положив его в основу своего творчества. Придумав жителя Сириуса Микромегаса, Вольтер должен был отправить его путешествовать между звезд. Придумав градоначальника с фаршированной головой, М. Е. Салтыков-Щедрин был просто обязан послать его спать в ледник или совершить что-нибудь в этом же роде. В этой внутренней логике - остатки той амбивалентности, которая свойственна была гротеску в прежние времена. Окончательно эта связь прерваться не может, это было бы равнозначно смерти гротеска. И все-таки, называя отмеченное явление «внутренней логикой» гротескного образа, нельзя забывать, что это логика игры с миром, веселой, (как правило) и противозаконной его перестройки. Эта логика парадоксальна в своей основе.
Все сказанное выше помогает понять, почему тесная родственная связь фантастики с гротеском обнаруживается прежде всего в фантастике условной и в повествовании сказочного типа и, как кажется, вовсе теряется в рассказах о необычайном, в научной фантастике в первую очередь.
Играть всегда легче такими явлениями, к которым утрачено серьезное отношение, которые не вызывают «уважения или даже страха» (Н. Добролюбов). Правда, были времена, когда человек побеждал страх смехом и умел смеяться над вещами серьезными, умел играть (хотя бы в определенный период) с тем, что обычно вызывало страх. Потом человек научился побеждать страх знанием, а смеяться стал преимущественно над «развенчанными богами» - с ними играть безопасно. Вот почему гротеск с его непременным игровым началом явно ощущается в фантастике условной, подчиненной сатирико-обличительной или философской тенденции. Там игра очевидна, действительность перекраивается по ее рецепту откровенно и задорно. То же можно сказать и о комической, юмористической фантастике, где игровое начало порой становится основным содержательным моментом.
Не скрывает гротеск своего лица и в произведениях, подобных «Острову доктора Моро» Г. Уэллса. Там не до смеха, гротеск там не комичен, а ужасен, но он явен, поскольку и здесь перед нами откровенная травестия, пусть мрачная, но все же игра с миром, когда автор лепит из представленного ему природой материала страшных или жалких чудовищ, используя уже известные нам механизмы гротеска. В данном случае в глаза бросается смешение различных областей природы. То же можно сказать и о селенитах Г. Уэллса («Первые люди на Луне»), и о его морлоках и элоях («Машина времени»). Гротеск здесь явен и подчинен определенной тенденции авторской мысли.
Иное дело в фантастике, где речь идет о рукотворных чудесах техники, о необычных явлениях природы, предполагаемых в том огромном мире, который лежит за пределами привычной нам среды, о возможных формах чужого разума или о далеком будущем земного человечества. В подобных произведениях мы обычно не встречаем прямой травестии (веселой или мрачной) или гротескной озорной игры, поскольку и цель-то автора не перекроить мир, выявляя его нелепости, а рассказать о том, что еще в этом мире, возможно, встретится человеку или появится в будущем. Однако все это не значит, что такая фантастика в самом деле разрывает связи с гротеском.
Непричастность фантастики необычайного к гротесковой образности кажущаяся, поскольку всякое фантазирование не может обойтись без участия тех комбинационных свойств фантазии, человеческого интеллекта, о которых уже шла речь выше.
При ближайшем рассмотрении мы найдем в ней те же известные нам принципы создания гротескного образа, только как бы приглушенные, замаскированные, порой трудно узнаваемые. Их и не распознали сразу. В 60-е годы искали секрет научной фантастики даже в родстве с научным методом (А. Громова). А это был тот же гротеск, только не столь откровенно игривый. Он управляет воображением писателя при создании и фантастической ситуации, и фантастической гипотезы, и уж, конечно, при создании конкретного чувственного образа, в котором эта гипотеза воплощается. Присутствуют здесь и логика карнавальной обратности, только и она тоже не спешит заявить о себе во всеуслышание.
В современной научной фантастике мы постоянно встречаемся с логикой «мира наизнанку». «Иные миры» - далекие планеты, на которых зачастую происходит действие такого рода произведений, - обогреваются нередко не желтыми звездами, как наша земля, а красными, синими или зелеными солнцами. И растительность там не зеленая, а красная, оранжевая, фиолетовая или даже черная. Слов нет, все это разноцветье имеет определенные основания и в научном знании: звезды в самом деле бывают разные, а растительность может приобретать различные оттенки в зависимости от освещения, от характера излучения центрального светила. Это даже на Земле проследить можно, что и делал в своих работах академик Г. И. Тихов. И все-таки без гротескной обратности, всегда привлекательной для писателя, здесь не обошлось, так как мир под синим солнцем или с оранжевой «зеленью» - это «мир наоборот».
Общеизвестно, что во взглядах на мир и возможные формы жизни и разума во Вселенной писатели-фантасты, вслед за учеными, придерживаются двух прямо противоположных точек зрения: одни (антропоморфисты), ссылаясь на закон конвергенции, утверждают, что высшие формы жизни во Вселенной должны быть близки тем формам, которые сложились на Земле, а разумное существо должно быть, во всяком случае, человекоподобным; другие (релятивисты), исходя из бесконечного разнообразия условий во Вселенной, предполагают возможность иных, не таких, как на Земле, форм жизни и разума. С. Лем, например, считает, что формы разумной жизни «могут глумиться над нашим воображением». Но сами-то эти формы мыслятся уже по логике гротеска и даже карнавала, в частности, по логике «мира наизнанку», сам по себе релятивизм не дает здесь никаких рекомендаций.
Так, если мы встречаемся в научной фантастике с разумными существами, не похожими на человека, то они чаще всего напоминают земных пауков или муравьев. Паукообразные марсиане Г. Уэллса - одни из первых в этом теперь уже длинном ряду. Ни приматов, ни высокоорганизованных животных мы, как правило, в такой роли не встретим. Почему? Да потому, что воображение, подчиняясь релятивистской логике, невольно ищет конкретные формы жизни и разума, не похожие на человека, на «расстояниях», как можно более от человека удаленных. Из живых существ, обитающих на суше, насекомые удалены от человека куда больше, чем теплокровные птицы и млекопитающие. Вот и разгадка того странного, на первый взгляд, упорства с каким фантасты превращают наших предполагаемых братьев по разуму в различного размера насекомых.
Больше того, в научной фантастике пышно разрослись разумные растения. Достаточно вспомнить Лиловые цветы К. Саймака («Все живое…») или мыслящее растение, живущее миллионы лет, Г. Джайлса («На Меркурии»). Тенденция та же - как можно дальше от человека, чтоб было «наоборот». А Моррисон наделил разумом… обыкновенный куль с картошкой («Мешок»). И каким разумом! Человек перед ним выглядит настоящим несмышленышем. И в «Солярисе» С. Лема - та же логика обратности: разумом наделяется совсем неразумная стихия - океан, пусть даже и плазменный.
Но и антропоморфисты не могут избежать этой власти карнавальной обратности. И. Ефремов был последовательным сторонником человекоподобного разума: и обитатели Эпсилон Тукана («Туманность Андромеды»), и встреченные случайно в космосе жители далекого мира («Сердце Змеи») похожи на людей и даже прекраснее, гармоничнее их. Но жители далекой планеты дышат фтором, гибельным для всего живого на Земле, и купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты, а земной газ жизни - кислород - смертельный яд для фторовых людей.
Разумеется, все эти образы научной фантастики, имеют опору в теориях и гипотезах современной науки, в том числе и фторовые люди И. Ефремова. Так, ученые предполагают, что, возможно, существуют во Вселенной планеты с совершенно иной химией, чем на Земле. У нас во всех биохимических процессах главную роль играют вода и кислород, а на каких-то планетах их место могут занять азот и аммиак. Носителями информации могут быть не нуклеиновые кислоты, а другие молекулы, основой же живой структуры может быть не углерод, а кремний или германий. Все это так.
И все же писатель, подбирая газ жизни для своих инопланетян, руководствовался не только его активностью, удельным весом и прочими объективными характеристиками. Можно было заставить инопланетян дышать чем-нибудь сугубо инертным, фантастика вполне с этим примирилась бы. Однако И. Ефремов, возможна интуитивно, искал газ «поядовитей». Да кроме того, все эти предположения ученых и привлекают-то фантастов тем, что уже содержат в себе идею «мира наизнанку», перевернутого, перестроенного в самих основах своих. Сами эти идеи гротескны и фантастичны, поскольку мышление ученых, естественно, подчиняется общим законам, и, отправляя свою мысль в «свободный поиск», ученый автоматически включает в работу уже известные нам механизмы. «Безумные» идеи в науке создаются по логике и законам карнавального гротеска, чаще всего по логике карнавальной «обратности».
«Логика обратности» ощущается и в утопии, поскольку она зачастую изображает мир, построенный по-другому принципу, чем современный, и даже в технической фантастике. Робот, прочно завоевавший права гражданства в современной научной фантастике, ведь тоже не что иное, как «человек наоборот». Таким во многом он предстает и в рассказах А. Азимова. Та же логика «мира наизнанку» явно ощущается в многочисленных ныне произведениях и шутливых, и серьезных - о постепенном наступлении машины на человека и даже о вытеснении человека машиной из целого ряда общественных институтов. И снова дело не только в том, как современная наука отвечает на вопрос, «может ли машина мыслить?», и даже не в том, что по логике технического прогресса человек неизбежно передаст машине целый ряд административных, управленческих функций, и не в возможных последствиях таких перемен (а здесь высказываются серьезные опасения), а и в том, что все эти дискуссии и научные споры опять-таки объективно заключают в себе мысль о перевернутом наизнанку вывернутом мире, в котором машина управляет, а человек подчиняется. И этот мир открывает колоссальные возможности для карнавальной игры, в которую можно включить всю историю человечества, начиная от библейского мифа о сотворении Адама.
Стремление вывернуть мир наизнанку, пусть не весь мир, а лишь одно из его явлений, неизбежно встретим мы и в том случае, когда отвлеченная мысль, не имеющая реального жизненного прототипа, ищет воплощения в конкретном чувственном образе. Парадоксальное предположение о возможности существования мыслящей плесени - лишнее доказательство тому, так же как и высказанная в научной статье мысль о существах, которые могут манипулировать языком так же, как мы руками. И опять поиски образа ведутся на возможно более далеких рубежах: в первом случае снова разумом наделяется одна из самых примитивных форм жизни, а во втором - основным рабочим органом оказывается язык, в то время как у всех народов понятие «болтун» и «любитель работать языком» издавна были синонимами «бездельника». Не случайно эти образы (мыслящая плесень и существо, работающее языком) выглядят вполне фантастическими, ибо созданы они по общим законам, по законам пересоздающей мир гротескной логики.
Во всех перечисленных выше случаях мы встречаемся со смешением разных областей природы, разумом наделяется нечто, с нашей точки зрения, сверхнеразумное, и мир выворачивается наизнанку. Но и другие принципы гротескной типизации - безмерность преувеличения и умножение - не чужды научной фантастике.
Напомним в этом плане только одно произведение - роман С. Лема «Солярис». Серьезность и даже трагизм всего, что там происходит, не вызывает сомнения, речь идет о встрече человека с иным разумом, о трудности взаимопонимания. Прямых, явных искажений пропорций, смещений как будто нет (если не считать соединения разума с неразумной, по земным представлениям, стихией, о чем уже шла речь). Но как, какими средствами создается пугающее ощущение необычности ситуации, фантастичности ее?
В отчете Бертона мы находим подробное описание того, что увидел он во время полета над Океаном. И самый, пожалуй, впечатляющий образ, рождающий беспокойное чувство несоответствия - ребенок, живой, двигающийся ребенок, только непомерной величины. Таким, наверное, вышел Гаргантюа из уха Гаргамелы. Традиционный образ великана (гротескное преувеличение) оказывается здесь очень важным звеном в образном воплощении идеи Неведомого.
Ощущение почти ирреальной необычности ситуации приходит к Крису Кельвину в тот момент, когда он видит два совершенно одинаковых платья Хари - одно принадлежало той Хари, которую он уже отправил в ракете в космос, а второе - пришедшей или, вернее, посланной Океаном ей на смену. Фантастическая ситуация создается умножением, бесконечным повторением того, что считается неповторимым, - человеческой личности.
При ближайшем рассмотрении почти во всех фантастических образах и гипотезах современной научной фантастики обнаружим мы признаки гротеска. И художественная экстраполяция, являющаяся едва ли не основным принципом исследования мира в утопии, романе-предупреждении и технической фантастике, явно тяготеет к гротескной форме преображения мира. Экстраполируя, т. е. продолжая в будущее одну из тенденций современности, зачастую только едва наметившуюся, писатель-фантаст заставляет ее разрастись, представляет ее ведущей в будущем мире, определяющей его облик. Что это, как не гротескная безмерность преувеличения?
На этом преувеличении основан весь метод технического фантазирования у Жюля Верна - и «Наутилус», и огромная пушка, из которой его герои отправились на Луну, сконструированы по тем же рецептам. Подводные лодки, построенные Башнеллом, Фультоном и другими инженерами-изобретателями, были, как правило, невелики, неудобны, погружались на небольшую глубину и пробыть под водой могли очень непродолжительное время - у Жюля Верна эти первые весьма скромные подлодки превращаются в плавучий подводный дворец. Пушка была хорошо известным техническим военным средством - в романе Жюля Верна она разрастается, подобно великанам Рабле, и ее приходится даже зарывать в землю. Все это давно и хорошо известно. Но, как правило, технические диковины Жюля Верна связывали с законами развития научно-технической мысли, ищущей новые принципы и в то же время трудно расстающейся с уже найденным решением. Однако в методе Жюля Верна нам видится и связь с художественным гротеском: ведь он все-таки создавал не технический проект, предназначенный к осуществлению, а роман, и его технические чудеса вместе с тем оставались художественными образами.
Итак, ощущение многоликости и неоднородности современной фантастической литературы обусловлено тем, что в ней в сложных сочетаниях и взаимодействиях «работают» три разные группы фантастических образов, сформировавшихся в разные исторические эпохи на основании разных мировоззренческих систем, и два различных типа повествования, две разные повествовательные структуры, имеющие во многом совершенно противоположные свойства. Кроме того, вся фантастическая литература современности так или иначе соприкасается с вторичной художественной условностью. В одном случае эта связь очевидна, в другом она почти незаметна, но в современном искусстве трудно найти серьезное фантастическое произведение, которое не допускало бы такой условности, иносказания, небуквального прочтения и расшифровки фантастических образов.
Внутреннее же единство всех форм и структур в фантастике объясняется тем, что в основе любого фантастического образа или ситуации лежат те механизмы работы человеческого сознания, которые можно, вслед за М. Бахтиным, назвать «гротескным методом построения образов».
Если говорить о фантастике и гротеске в творчестве Николая Васильевича Гоголя, то впервые мы встречаемся с этими элементами в одном из первых его произведений «Вечера на хуторе близ Диканьхи». Написание «Вечеров...» связано с тем, что в это время русская общественность проявляла большой интерес к Украине; ее нравам, быту, литературе, фольклору, и у Гоголя возникает смелая мысль - откликнуться собственными художественным» произведениями на читательскую потребность. Вероятно, в начале 1829 года Гоголь начинает писать «Вечера...» Тематика «Вечеров...»- характеры, духовные свойства, моральные правила, нравы, обычаи, быт, поверья украинского крестьянства («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купаны», «Майская ночь»), казачества («Страшная месть») и мелкого поместного дворянства («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). Герои «Вечеров...» находятся во власти религиозно-фантастических представлений, языческих и христианских верований. Гоголь отображает народное самосознание не статически, а в процессе исторического роста. И совершенно естественно, что в рассказах о недавних событиях, о современности демонические силы воспринимаются как суеверие («Со-рочинская ярмарка»). Отношение самого автора к сверхъестественным явлениям ироническое. Объятый высокими думами о гражданском служении, стремящийся к «благородным подвигам», писатель подчинял фольклорнс-этнографические материалы задаче воплощения духовной сущности, нравстеенно-, психологического облика народа как положительного героя его произведений. Волшебно-сказочная фантастика отображается Гоголем, как правило, не мистически, а согласно народным представлениям, более или менее очеловеченно. Чертям, ведьмам, русалкам придаются вполне реальные, конкретные человеческие свойства. Так, черт из повести «Ночь перед Рождеством» «спереди - совершенный немец», а «сзади- губернский стряпчий в мундире». И, ухаживая, как заправский ловелас, за Солохой, он нашептывал ей на ухо «то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду». Фантастика, органически вплетенная писателем в реальную жизнь, приобретает в «Вечерах...» прелесть наивно-народного воображения и, несомненно, служит поэтизации народного быта. Но при всем том религиозность самого Гоголя не исчезала, а постепенно росла. Более полно, нежели в других произведениях, она выразилась в повести «Страшная месть». Здесь в образе колдуна, воссозданном в мистическом духе, олицетворяется дьявольская сила. Но этой загадочно страшной силе противопоставляется православная религия, вера во все побеждающую власть божественного произволения. Так, уже в «Вечерах...» проявились мировоззренческие противоречия Гоголя. «Вечера...» изобилуют картинами природы, величественной и пленительно-прекрасной. Писатель награждает ее самыми мажорными сравнениями: «Снег... обсыпался хрустальными звездами» («Ночь перед Рождеством») и эпитетами: «Земля вся в серебряном свете», «Божественная ночь!» («Майская ночь, или Утопленница»). Пейзажи усиливают красоту положительных героев, утверждают их единство, гармоническую связь с природой и в то же время подчеркивают безобразие отрицательных персонажей. И в каждом произведении «Вечеров...» в соответствии с его идейным замыслом и жанровым своеобразием природа принимает индивидуальную окраску. Глубоко отрицательные впечатления и горестные размышления, вызванные жизнью Гоголя в Петербурге, в значительной мере сказались в так называемых «Петербургских повестях», созданных в 1831-1841 годах. Все повести связаны общностью проблематики (власть чинов и денег), единством основного героя (разночинца, «маленького» человека), целостностью ведущего пафоса (развращающая сила денег, разоблачение вопиющей несправедливости общественной системы). Они правдиво воссоздают обобщенную картину Петербурга 30-х годов XX века, отражавшую концентрированно социальные противоречия, свойственные всей стране. При главенстве сатирического принципа изображения Гоголь особенно часто обращается в этих повестях к фантастике и излюбленному им приему крайнего контраста. Он был убежден, что «истинный эффект заключен в резкой противоположности». Но фантастика в той или иной мере подчинена здесь реализму. В «Невском проспекте» Гоголь показал шумную, суетливую толпу людей самых различных сословий, разлад между возвышенной мечтой (Пискарев) и пошлой действительностью, противоречия между безумной роскошью меньшинства и ужасающей бедностью большинства, торжество эгоистичности, продажности, «кипящей меркантильности» (Пирогов) столичного города!. В повести «Нос» рисуется чудовищная власть чмномании и чинопочитания. Углубляя показ нелепости человеческих взаимоотношений в условиях деспотическо-бюрократической субординации, когда личность, как таковая, теряет всякое значение. Гоголь искусно использует фантастику. «Петербургские повести» обнаруживают явную эволюцию от социально-бытовой сатиры («Невский проспект») к гротесковой социально-политической памфлетности («Записки сумасшедшего»), от органического взаимодействия романтизма и реализма при преобладающей роли второго («Невский проспект») к все более последовательному реализму («Шинель»), В повести «Шинель» запуганный, забитый Башмачкин проявляет свое недовольство значительными лицами, грубо его принижавшими и оскорблявшими, в состоянии беспамятства, в бреду. Но автор, будучи на стороне героя, защищая его, осуществляет протест в фантастическом продолжении повести. Гоголь наметил в фантастическом завершении повести реальную мотивировку. Значительное лицо, смертельно напугавшее Акакия Акакиевича, ехало по неосвещенной улице после вылитого у приятеля на вечере шампанского, и ему, в страхе, вор мог показаться кем угодно, даже мертвецом. Обогащая реализм достижениями романтизма, создавая в своём творчестве сплав сатиры и лирики, анализа действительности и мечты о прекрасном человеке и будущем страны, он поднял критический реализм на новую, высшую ступень по сравнению со своими предшественниками.
- Горбуша, запеченная в духовке с картошкой
- Как приготовить хворост в домашних условиях: вкусные и легкие рецепты
- Домашняя бастурма — лучшие рецепты
- Как обустроить рабочий стол по Фен Шуй для денег
- Заговоры против соперницы вернут спокойствие в семью
- Конспект по обучению грамоте в подготовительной группе «Космическое путешествие
- Чиновник Сергей Рыбаков: «Время – то, что мы в него вмещаем
- Боли в левом боку со стороны спины
- На автомобиле - от государства
- Постный суп-пюре из тыквы — полезное блюдо для детей и взрослых
- Географические координаты
- Происхождение и история аварского народа
- Медицинские приборы для лечения суставов в домашних условиях Бытовой ультразвуковой прибор физиотерапии для лечения суставов
- Территориальные единичные расценки
- Кронштадтское восстание («мятеж») (1921) Подавление кронштадтского восстания
- Даосская система. Л. БингСекреты любви. Даосская практика для женщин и мужчин. Система «Вселенское Дао»
- Цигун: китайская практика укрепления организма
- Оед общество евангелизации детей
- Лимонное печенье из песочного теста Как приготовить лимонное печенье из песочного теста
- Салат ералаш с говядиной рецепт